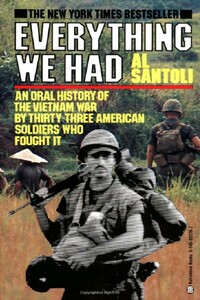В сорок первом - [34]
— Не считай, не сочтешь! Много пробежало. Аверьян, пригибаясь под притолоку, вошел следом за Антониной в горницу, внося с собой запах солдатской махры и карболки, которым пропиталась его ворсистая, суконная шинель. С улицы он плохо видел в сумраке хаты, споткнулся о табуретки.
— Погоди, я сейчас лампочку засвечу, — бросилась искать спички Антонина.
— Не надо, на что она, видать пока еще… Фу-ух, дай отдышаться! Запарился, быстро шел.
Аверьян скинул с плеч вещевой мешок, бросил его у порога, расстегнул крючки шинели. Изнанкой пилотки отер влажный лоб.
Спички не отыскались, куда-то запропали, — сборы к отъезду все спутали, перевернули кверху дном в хате. В горницу снаружи сочился слабый розоватый свет зари, его, верно, еще хватало, и, приглядевшись, Антонина смогла рассмотреть Аверьяна, его небритое лицо, крупную голову, остриженную машинкой, в отрастающей темной щетине волос.
В какого же дюжего вымахал он мужика! Саженные плечи, тело прямо литое, ладони — подкову согнет! А был таким хлипким шустрым мальчуганом, потом — подростком с длинной цыплячьей шеей, потом — костлявым, нескладным пареньком, — лет в двадцать с небольшим… Сколько ж ему сейчас? Он только чуть Антонины старше, почти ровесники они… Стало быть — тридцать пять, тридцать шестой…
— А ты так все одна, так себе и не завела никого?
— Как видишь, — показала на стены, вокруг себя Антонина. — А ты вроде все про меня знаешь?
— А как же! — сказал Аверьян. — Я ведь тебя из виду все года-то эти не упускал, всяким слухом пользовался… Это ты про меня не интересовалась, не знаешь…
— Да нет, Авера, не так оно… Ты как пропал просто, ни духу, ни слуху про тебя не было. Погоди, — спохватилась Антонина, — может, ты голодный, накормить тебя надо?
— Я не голодный, кой-чего с собой есть, водицы вот дай испить, внутри все иссохло…
Антонина черпнула железной кружкой из ведра на лавке, подала. Аверьян принял кружку двумя руками, выпил жадно, большими глотками, запрокидывая голову.
На крепкой загорелой шее его, в какой-то красивой общности со всею силою его могучего тела, двигались, выпукло напрягаясь и опадая, бугры жил и мускулов.
Давняя, еще девчоночья, потом девичья нежность, про которую Антонина думала, что она давно уже умерла в ней безвозвратно, теплым током омыла ей изнутри грудь, мягко, бархатно, до какой-то даже знобкости в теле, сжала сердце.
— Так где ж тебя носило те года-то, и теперь откуда ты, скажи, — попросила Антонина. — Ты ранетый?
— Был, — сказал Аверьян, переводя дух, возвращая кружку. — Несильно. Царапнуло только осколком, вот тут, — провел он рукой по бедру. — Мне б еще лежать в госпитале, до полного заживления, да госпиталь тот, должно, уж немцы весь повырезали. Прорыв там был. Не успели нас вывезть, как они — уж вот. Кто мог, кто ходячий, те ушли сами кой-как, ушкандыбали, а лежачие — все остались. Я вот ушел, седьмой день нынче… Хорошо ищ, на вещевой склад брошенный на пути повезло напасть, шинель вот взял, сапоги, полное обмундирование, а иные как на койках лежали в исподнем — так и чесанули…
Слова у Аверьяна текли глухо, замедленно, как-то тускло; он, видать, здорово устал в своем пути; но, сидя на табуретке, выпив водицы, он быстро избавлялся от усталости, прямо на глазах оживая. Голос его тоже креп, становился гуще, бодрей, — немного, видать, надо было его мускулистому телу, чтоб вновь налилось оно упругой силой, — минуту лишь передыху…
А Антонина, говоря с ним, просто глазам не верила — Аверьян! Прямо из небытия возникший человек! Ведь про него в Гороховке и думать забыли, последние года никто имени его даже не поминал!
Их усадьба, Захара Ильича, отца Аверьянова, стояла в том же ряду, что и Антонины, хат за десять-двенадцать, почти на самом конце деревни. Сейчас там ничего нет, пустырь в бурьяне, только земля чуть бугрится, где хата стояла, да яма от погреба.
Аверьянова отца Захара Ильича Антонина хорошо помнила: ростом высок, но сухонький, с жидкой бороденкой, глаза быстрые, влажно-красные и всегда как бы смеющиеся, точно Захар Ильич задумал про себя что-то чудное, удивительное и людям, и самому себе, и ему же первому смешно, что он такое промыслил, и нисколько ему не будет обидно, когда над ним посмеются и другие. Был он крестьянином, как все, имел до революции небольшой надел, хозяйство — не лучше, не хуже других: корова, свинья, куры, с десяток гусей. Лошадь, правда, была, гнедая, малорослая, с посеченными бабками, но крепкая, безотказно работящая. Захар Ильич побывал кой-где, кой-чего повидал, обожал толкаться на ярмарках, среди торговцев, слушать ихние разговоры. От них поселился в нем бес предприимства, все он всякие дела доходные соблазнялся затеять, и затеял-таки, — чего так тянуть свою долю, концы с концами только сходятся! — открыл в Гороховке в своем доме шкалишную, иначе сказать — питейное заведение, кабак. Где-то перед самой германской войной Захар Ильич это сделал и даже не нажился ничуть, потому как вскоре началась война, пивные запретили, а там — революция. Когда нэп объявили, Захара Ильича снова в доходы потянуло: небольшую маслобойку завел. Принимал в работу семя от окрестных мужиков; одному не управиться, держал батрака, хоть и не звался он так, а просто — родственник, по-родственному помогает. За эту маслобойку и турнули Захара Ильича, когда пошла коллективизация и кулачить стали.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
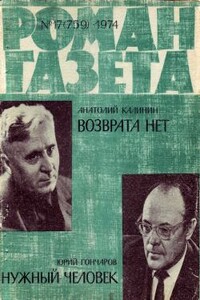
«…К баньке через огород вела узкая тропка в глубоком снегу.По своим местам Степан Егорыч знал, что деревенские баньки, даже самые малые, из одного помещения не строят: есть сенцы для дров, есть предбанничек – положить одежду, а дальше уже моечная, с печью, вмазанными котлами. Рывком отлепил он взбухшую дверь, шагнул в густо заклубившийся пар, ничего в нем не различая. Только через время, когда пар порассеялся, увидал он, где стоит: блеклое белое пятно единственного окошка, мокрые, распаренные кипятком доски пола, ушаты с мыльной водой, лавку, и на лавке – Василису.

«… Уже видно, как наши пули секут ветки, сосновую хвою. Каждый картечный выстрел Афанасьева проносится сквозь лес как буря. Близко, в сугробе, толстый ствол станкача. Из-под пробки на кожухе валит пар. Мороз, а он раскален, в нем кипит вода…– Вперед!.. Вперед!.. – раздается в цепях лежащих, ползущих, короткими рывками перебегающих солдат.Сейчас взлетит ракета – и надо встать. Но огонь, огонь! Я пехотинец и понимаю, что́ это такое – встать под таким огнем. Я знаю – я встану. Знаю еще: какая-то пуля – через шаг, через два – будет моя.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
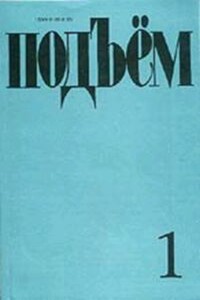
«… И вот перед глазами Антона в грубо сколоченном из неструганых досок ящике – три или пять килограммов черных, обугленных, крошащихся костей, фарфоровые зубы, вправленные в челюсти на металлических штифтах, соединенные между собой для прочности металлическими стяжками, проволокой из сверхкрепкого, неизносимого тантала… Как охватить это разумом, своими чувствами земного, нормального человека, никогда не соприкасавшегося ни с чем подобным, как совместить воедино гигантскую масштабность злодеяний, моря пролитой крови, 55 миллионов уничтоженных человеческих жизней – и эти огненные оглодки из кострища, зажженного самыми ближайшими приспешниками фюрера, которые при всем своем старании все же так и не сумели выполнить его посмертную волю: не оставить от его тела ничего, чтобы даже малая пылинка не попала бы в руки его ненавистных врагов…– Ну, нагляделись? – спросил шофер и стал закрывать ящики крышками.Антон пошел от ящиков, от автофургона, как лунатик.– Вы куда, товарищ сержант? Нам в другую сторону, вон туда! – остановили его солдаты, а один, видя, что Антон вроде бы не слышит, даже потянул его за рукав.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.
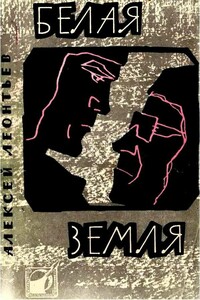
Алексей Николаевич Леонтьев родился в 1927 году в Москве. В годы войны работал в совхозе, учился в авиационном техникуме, затем в авиационном институте. В 1947 году поступил на сценарный факультет ВГИК'а. По окончании института работает сценаристом в кино, на радио и телевидении. По сценариям А. Леонтьева поставлены художественные фильмы «Бессмертная песня» (1958 г.), «Дорога уходит вдаль» (1960 г.) и «713-й просит посадку» (1962 г.). В основе повести «Белая земля» лежат подлинные события, произошедшие в Арктике во время второй мировой войны. Художник Н.

Эта повесть результат литературной обработки дневников бывших военнопленных А. А. Нуринова и Ульяновского переживших «Ад и Израиль» польских лагерей для военнопленных времен гражданской войны.
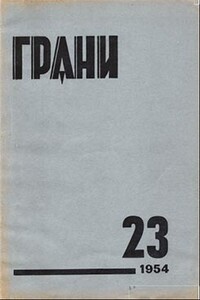
Рассказ о молодых бойцах, не участвовавших в сражениях, второй рассказ о молодом немце, находившимся в плену, третий рассказ о жителях деревни, помогавших провизией солдатам.

До сих пор всё, что русский читатель знал о трагедии тысяч эльзасцев, насильственно призванных в немецкую армию во время Второй мировой войны, — это статья Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса», опубликованная в «Правде» 10 июня 1943 года. Именно после этой статьи судьба французских военнопленных изменилась в лучшую сторону, а некоторой части из них удалось оказаться во французской Африке, в ряду сражавшихся там с немцами войск генерала де Голля. Но до того — мучительная служба в ненавистном вермахте, отчаянные попытки дезертировать и сдаться в советский плен, долгие месяцы пребывания в лагере под Тамбовом.

Ященко Николай Тихонович (1906-1987) - известный забайкальский писатель, талантливый прозаик и публицист. Он родился на станции Хилок в семье рабочего-железнодорожника. В марте 1922 г. вступил в комсомол, работал разносчиком газет, пионерским вожатым, культпропагандистом, секретарем ячейки РКСМ. В 1925 г. он - секретарь губернской детской газеты “Внучата Ильича". Затем трудился в ряде газет Забайкалья и Восточной Сибири. В 1933-1942 годах работал в газете забайкальских железнодорожников “Отпор", где показал себя способным фельетонистом, оперативно откликающимся на злобу дня, высмеивающим косность, бюрократизм, все то, что мешало социалистическому строительству.