В скрещенье лучей - [5]
«Одиночество». Перевод Б. Лившица[5]
Уже у раннего Ламартина элегия исподволь переходит в молитвенное славословие небесам; с годами же оно забивает и душит неподдельно личные признания.
И все же именно «сладкозвучный печальник» Ламартин находится у первоистоков той романтической исповедальности, какой французская лирика во многом обязана своим возрождением в XIX веке.
По-своему отчетливо эта острейшая потребность излить собственную душу в ее разладе с миром пробивалась в тех случаях, когда такое напряженное самовыражение бывало облечено в одежды иносказания, с виду повествовательно-эпично, как у выступившего вскоре за Ламартином Альфреда де Виньи (1797–1863).
Принадлежа к потомственному дворянству, так и не пожелавшему внутренне принять жизненный уклад пореволюционной Франции, Виньи, в отличие от Ламартина, пред почел освещенным подмосткам светского Парижа затворничество, которое ухитрялся соблюсти не только в деревенской глуши, но и посреди столичной сутолоки. В молодые годы офицер с завидным будущим, да еще и усматривавший в ратном ремесле едва ли не подвижническую доблесть, он тем не менее довольно рано покинул армию, тяготившую его своими нравами. И затем почти весь тридцатилетний без малого остаток дней провел замкнуто, в презрительной обиде на свой век. Истово и неспешно трудился он над повествованиями о прошлом, работал и для театра, а самые заветные мысли предназначал стихам, собранным посмертно в книге «Сýдьбы» (1864), и своему дневнику, тоже увидевшему свет стараниями его душеприказчиков (1867).
Подчеркнуто сдержанный поэт-мыслитель, Виньи обычно вкладывает вдумчиво пережитое и страстно передуманное в притчу, почерпнутую из мифа, чаще всего библейского, или перелагающую какой-то памятный случай из жизни. И лишь под самый занавес такой, будто сторонний, «пере сказ» переключается из плоскости повествовательной в плоскость философско-исповедальную, увенчивается при знанием – уроком и заветом, как в «Смерти волка», воспоминании об одной ночной охоте, когда напавшая на след погоня была задержана самцом: вступив в заведомо непосильную для него схватку со сворой собак, он бестрепетно погиб, чтобы дать спастись волчице с ее потомством.
Перевод В. Левика[6]
Миросозерцание Виньи, уязвленного засильем вокруг мелкотравчатой торгашеской обывательщины, когда недюжинная личность – пророк, воин или художник – обречена на прозябание, отщепенство, гибель, неизбывно трагично. «Спокойная безнадежность, без судорожного гнева и укоров небесам, – записывал он в дневнике, – это и есть сама мудрость». Хмурое безмолвие божества над головой, не внемлющего мольбам и недоуменным вопрошаниям людским; деляческая суета машинной цивилизации, вторгающейся в самые дотоле тихие уголки природы; жестокосердие и толпы и властителей; предательское коварство самых близких – вселенная, по Виньи, неблагосклонна к нам, гнетуще безучастна, а порой и прямо враждебна. Залог достоинства личности видится ему, однако, в том, чтобы не сникнуть под удара ми судьбы, но распрямиться и горделиво встретить разлитое повсюду злосчастье. И не просто выстоять, а исполнить до конца дело своей жизни, свой долг на земле. Для самого Виньи он – в духовном служении, призванном выпестовать, вопреки всем житейским невзгодам, «жемчужину мысли» и принести ее в дар поколениям, сегодняшним и грядущим. Трагизм здесь – не сломленность, а суровое, без обольщений благими надеждами, сопротивленчество року.
Ответственная перед собой и другими стоическая выдержка – ключевая нравственная ценность Виньи – передается и его слогу, всегда собранному, тщательно взвешенному. Прозрачность неспешно выношенного замысла и чистота отделки; слегка замедленное, внятное до малейших смысловых оттенков, исполненное серьезности письмо; стройное равновесие александрийского двенадцатисложника, почти исключительно им употребляемого; четкая разбивка чреды кованых строк на крепко сбитые строфы – мастерство Виньи, особенно совершенное в самой прославленной из его малых лирических эпопей, «Доме пастуха», вполне под стать исповедуемой им морали самообладания:

Самарий Великовский (1931–1990) – известный философ, культуролог, литературовед.В книге прослежены судьбы гуманистического сознания в обстановке потрясений, переживаемых цивилизацией Запада в ХХ веке. На общем фоне состояния и развития философской мысли в Европе дан глубокий анализ творчества выдающихся мыслителей Франции – Мальро, Сартра, Камю и других мастеров слова, раскрывающий мировоззренческую сущность умонастроения трагического гуманизма, его двух исходных слагаемых – «смыслоутраты» и «смыслоискательства».

В книге дается всесторонний анализ творчества Альбера Камю (1913–1960), выдающегося писателя, философа, публициста – «властителя дум» интеллигенции Запада середины XX столетия (Нобелевская премия 1957 г.). Великовский рассматривает наследие Камю в целостности, прослеживая, как идеи мыслителя воплощаются в творчестве художника и как Камю-писатель выражает себя в философских работах и политической публицистике. Достоинство книги – установление взаимодействия между поисками мировоззренческих и нравственных опор в художественных произведениях («Посторонний», «Чума», «Падение», др.) и собственно философскими умонастроениями экзистенциализма («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» и др.)
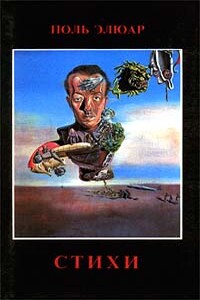
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
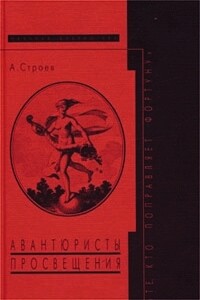
Книга, подготовленная в Отделе классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, посвящена знаменитым авантюристам и литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д’Эону, Бернардену де Сен-Пьеру, Чуди, Фужере де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи (роман, комедия, литературный миф, алхимия, игра)

Виталий Иванович Бугров, заведующий отделом фантастики журнала «Уральский следопыт» был не просто редактором, библиофилом и библиографом фантастики. Его перу принадлежит множество статей и очерков, посвящённых малоизвестным страницам отечественной и зарубежной фантастики. Лучшие очерки и статьи Виталия Бугрова собраны в этой книге.© Sawwin * * *В книгу уральского критика и литературоведа вошли очерки и этюды из истории фантастики, как новые, так и ранее публиковавшиеся.Книга адресована юношеству.* * *Переиздание сборника «В поисках завтрашнего дня» с добавлением нескольких новых статей и дополнениями в некоторых старых.

В книге предпринята попытка демифологизации одного из крупнейших мыслителей России, пожалуй, с самой трагической судьбой. Власть подарила ему 20 лет Сибири вдали не только от книг и литературной жизни, но вдали от просто развитых людей. Из реформатора и постепеновца, блистательного мыслителя, вернувшего России идеи христианства, в обличье современного ему позитивизма, что мало кем было увидено, литератора, вызвавшего к жизни в России идеологический роман, по мысли Бахтина, человека, ни разу не унизившегося до просьб о помиловании, с невероятным чувством личного достоинства (а это неприемлемо при любом автократическом режиме), – власть создала фантом революционера, что способствовало развитию тех сил, против которых выступал Чернышевский.

В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, доктора филологических наук Валерия Земскова, основателя российской школы гуманитарной междисциплинарной латиноамериканистики, публикуется до сих пор единственный в отечественном литературоведении монографический очерк творчества классика XX века, лауреата Нобелевской премии, колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Далее воссоздана история культуры и литературы «Другого Света» (выражение Христофора Колумба) – Латинской Америки от истоков – «Открытия» и «Конкисты», хроник XVI в., креольского барокко XVII в.

Настоящим томом продолжается издание сочинений русского философа Густава Густавовича Шпета. В него вошла первая часть книги «История как проблема логики», опубликованная Шпетом в 1916 году. Текст монографии дается в новой композиции, будучи заново подготовленным по личному экземпляру Шпета из личной библиотеки М. Г. Шторх (с заметками на полях и исправлениями Шпета), по рукописям ОР РГБ (ф. 718) и семейного архива, находящегося на хранении у его дочери М. Г. Шторх и внучки Е. В. Пастернак. Том обстоятельно прокомментирован.

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель.В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути.