В скрещенье лучей - [19]
Подобно многим своим сверстникам, Бодлер пережил революционный 1848‑й год – а он был на баррикадах и в феврале, и в дни июньского восстания парижских рабочих – как краткое опьянение радужными, хотя и весьма у него сбивчивыми, надеждами перестроить всю жизнь снизу доверху. Тем тягостнее было три года спустя, после декабря 1851‑го, душевное похмелье Бодлера на самом дне безнадежности, которая сопровождалась отречением от всяких граждански-политических порывов. В отличие от Гюго, Бодлер полагал, что государственный переворот был не просто делом кучки наглых и ловких насильников: «Глупцы те, кто думает, будто подобные вещи могут совершаться без позволения народа…». И потому ожесточенная неприязнь к мещанской Франции на калена у него до крайнего предела: «Современная шваль внушает мне ужас. Ваши либералы – ужас. Добродетели – ужас. Порок – ужас. Приглаженный стиль – ужас. Прогресс – ужас».
Скептический оползень вчерашних верований, так или иначе затронувший всех мыслящих наблюдателей тогдашних исторических превратностей – от Флобера и Гейне до Ренана и Герцена, в случае с Бодлером зашел так далеко, что рас шатал и подломил две философские опоры, на каких со времен Возрождения и просветительства покоилось в странах Запада всякое светское оптимистическое миросозерцание: доверие к изначально доброй природе человека и доверие к скрытой, но в конце концов как бы «разумной» и приязненной к нам целесообразности поступательного хода вещей на земле, который не сегодня так завтра все уладит к лучшему, даровав благоденствие. По Бодлеру – и здесь он как раз сродни Достоевскому «Записок из подполья» в его притяжениях-отталкиваниях с философией Канта, – оба эти сопряженные между собой допущения ума есть не что иное, как «выдумки нынешней философистики», не имеющие сколько-нибудь доказательных подтверждений. Напротив, для Бодлера растлевающий упадок окрест, когда духовность подмята корыстью, – опровержение просветительски-гегельянских учений о прогрессе не менее явное, чем колеблющая все руссоистские суждения о врожденной доброте людской жестокость первобытных нравов, облагороженных как раз над– или «сверхприродными» установлениями морали и культуры. Предрасположенность и воля к чистому, достойному, благому столь же изначальны у человека, как и податливость на вожделения порочные, злые, дремуче-темные. В себе самом эту расколотость, неустранимую двойственность Бодлер обнаруживал на каждом шагу и, не отличаясь в повседневной жизни крепостью христианской веры, искал, однако, поддержки своей философии личности в библейской легенде о «первородном грехе». «Есть в каждом человеке, – записывал он в дневнике “Мое обнаженное сердце[26], – одновременно два устремления, первое обращено к Богу, второе – к Сатане. Зов Бога, или духовность, – это жажда внутренне возвыситься, зов Сатаны, или животность, – это радость от собственного падения».
На такой мировоззренческой площадке и возводится Бодлером здание «сверхприродной», по его словам, эстетики с надстраивающей ее, в свою очередь, «магической» поэтикой. Оно предназначено послужить оплотом для творчества, которое бы оправдало эту приставку «сверх» двояко. Прежде всего исторически – тем, что оно по необходимости питается токами цивилизации, приближающейся к «старости», с возрастом утрачивающей и крепкое здоровье, и простосердечную наивность, зато весьма искушенной, изощрившейся, утонченно изысканной. Хотят того или нет, «предзакатность» ее накладывает свой отпечаток на вкусы: внушает повышенную чуткость к красоте увядания, одухотворенно-скорбной, сочетающей в себе «пылкость и печаль». Отсюда же предпочтение, оказываемое мастерски сделанному перед естественно бесхитростным, ведь последнее в силу своей незащищенности просто-напросто впитывает в пору «упадка» его болезнетворные испарения и тем обрекает себя на упадочничество, тогда как умелая их обработка с целью превозмочь ущербность подручного материала есть «героизм времен упадка».
Героичность такого преодоления обстоятельств заострен но выявляет, по мнению Бодлера, тот закон – и здесь вторая, уже не исторически переменная, а общетеоретическая составляющая принципа «сверхприродности», – что действительная жизнь всегда входит в искусство отнюдь не как нечто безыскусное, а совсем наоборот: искусно претворенной. Бодлер склоняется к пересмотру веками непререкаемой аристотелевской установки на «подражание природе» как важнейшую задачу живописца, музыканта, писателя. Для него «королева способностей» – воображение. В природе оно добывает, как в «словаре» или «складе образов и знаков», только руду, каковая подлежит обогащению и переплавке, согласно замыслу как раз внеприродному, выпестованному духом – культурой и цивилизацией. Вовсе не тождественное прихотливо непроизвольной фантазии, бодлеровское воображение есть дар порождающий, волевой и действенный; всякий раз он как бы повторяет божественное сотворение упорядоченного космоса из первичного зыбкого хаоса: в рос сыпи разрозненных наблюдений сперва угадывается какая-то одна из бесчисленных возможностей их упорядочения, а за тем воплощается в непреложном и вместе с тем всегда самобытном единстве «заново созданного мира».

Самарий Великовский (1931–1990) – известный философ, культуролог, литературовед.В книге прослежены судьбы гуманистического сознания в обстановке потрясений, переживаемых цивилизацией Запада в ХХ веке. На общем фоне состояния и развития философской мысли в Европе дан глубокий анализ творчества выдающихся мыслителей Франции – Мальро, Сартра, Камю и других мастеров слова, раскрывающий мировоззренческую сущность умонастроения трагического гуманизма, его двух исходных слагаемых – «смыслоутраты» и «смыслоискательства».

В книге дается всесторонний анализ творчества Альбера Камю (1913–1960), выдающегося писателя, философа, публициста – «властителя дум» интеллигенции Запада середины XX столетия (Нобелевская премия 1957 г.). Великовский рассматривает наследие Камю в целостности, прослеживая, как идеи мыслителя воплощаются в творчестве художника и как Камю-писатель выражает себя в философских работах и политической публицистике. Достоинство книги – установление взаимодействия между поисками мировоззренческих и нравственных опор в художественных произведениях («Посторонний», «Чума», «Падение», др.) и собственно философскими умонастроениями экзистенциализма («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» и др.)
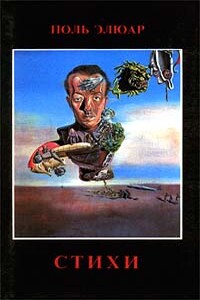
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, доктора филологических наук Валерия Земскова осмысливается специфика «русской идентичности» в современном мире и «образа России» как культурно-цивилизационного субъекта мировой истории. Автор новаторски разрабатывает теоретический инструментарий имагологии, межкультурных коммуникаций в европейском и глобальном масштабе. Он дает инновационную постановку проблем цивилизационно-культурного пограничья как «универсальной константы, энергетического источника и средства самостроения мирового историко-культурного/литературного процесса», т. е.

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель.В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути.

Настоящим томом продолжается издание сочинений русского философа Густава Густавовича Шпета. В него вошла первая часть книги «История как проблема логики», опубликованная Шпетом в 1916 году. Текст монографии дается в новой композиции, будучи заново подготовленным по личному экземпляру Шпета из личной библиотеки М. Г. Шторх (с заметками на полях и исправлениями Шпета), по рукописям ОР РГБ (ф. 718) и семейного архива, находящегося на хранении у его дочери М. Г. Шторх и внучки Е. В. Пастернак. Том обстоятельно прокомментирован.

В книге предпринята попытка демифологизации одного из крупнейших мыслителей России, пожалуй, с самой трагической судьбой. Власть подарила ему 20 лет Сибири вдали не только от книг и литературной жизни, но вдали от просто развитых людей. Из реформатора и постепеновца, блистательного мыслителя, вернувшего России идеи христианства, в обличье современного ему позитивизма, что мало кем было увидено, литератора, вызвавшего к жизни в России идеологический роман, по мысли Бахтина, человека, ни разу не унизившегося до просьб о помиловании, с невероятным чувством личного достоинства (а это неприемлемо при любом автократическом режиме), – власть создала фантом революционера, что способствовало развитию тех сил, против которых выступал Чернышевский.