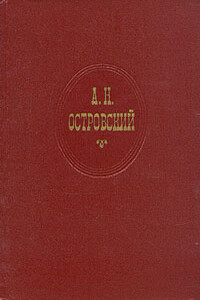В последний раз - [4]
Поршнев собирался молча, не обращая внимания на жену, что ее окончательно вывело из себя. Когда он стал запрягать в телегу гнедого киргиза, она схватилась за узду.
— Не дам Гнедка!.. Мой Гнедко!.. Какая теперь дорога-то, разбойники вы этакие?.. В один день по распутице изведете лошадь…
— А мы другую подпряжем, глупая! — спокойно ответил Поршнев. — Гнедко в корню, а в пристяжке пойдет Воронко… Огибенин, орудуй!
— Разбойники вы все, вот что! — кричала Маремьяна Власьевна на весь двор. — Погубители!..
Катаев попробовал было уговорить расходившуюся старуху, но только махнул рукой:
— Ты-то к чему прикачнулся, оборотень?! — вопила она на него. — Откуда тебя нелегкая принесла?.. Чтобы тебе ни дна, ни покрышки, окаянной душе!..
Досталось по пути и старику Огибенину, который спорить и возражать по бедности не мог, а только встряхивал головой. Он и не рад был, что попал в хорошую компанию, потому что постоянно случалось одолжаться у Маремьяны Власьевны, а теперь и на глаза к ней не показывайся! Баба характерная, живьем съест, ежели расстервенится.
Все вздохнули свободнее, когда выехали наконец из ворот поршневского дома. Маремьяна Власьевна бежала за телегой по улице и что-то кричала, грозила кулаком и вообще неистовствовала, как сумасшедшая. Гаврила Семеныч угрюмо молчал. Ему было немножко и совестно перед посторонними людьми и обидно за взбесившуюся жену. Что же, кажется, он хозяин в своем собственном дому, и никто ему не смеет указывать…
— Через недельку вернемся, — говорил Катаев. — Еще неизвестно, что там…
— Не таковское дело, чтобы его наверняка делать, — спокойно отвечал Поршнев. — Конечно, баба не понимает ничего… Ну, что я буду мерить овес да выдавать сено ямщикам, — и без меня обойдутся. Засиделся я дома-то, набаловал жену, — вот она и дичит, как оглашенная. Ничего, обойдется…
В сущности, действительно, Маремьяна Власьевна совершенно напрасно так беспокоилась. Между Катаевым и Поршневым даже не было никакого серьезного уговора по части золотого дела, и своим вмешательством она только подлила масла в огонь. Гаврила Семеныч просто хотел встряхнуться и подышать свежим промысловым воздухом. Сказалась вечная промысловая тоска о не дававшемся в руки счастье. А сейчас он сидел в телеге и думал запавшей в голову одной фразой: «А что, я не хозяин в своем дому? Слава богу, не дом меня нажил, а я его».
Весенняя дорога была тяжелая, и на третьей версте сильный коренник уже «задымился» от пота.
— Ничего, подберется, — говорил Огибенин, отвечая на тайную хозяйскую мысль Гаврилы Семеныча. — Застоялись у тебя лошади…
Дорога шла на юго-запад, пересекая волнистую равнину, в глубине которой красиво громоздились горы. Картину портило полное отсутствие леса. А когда-то здесь был настоящий вековой башкирский «урман», то есть непроходимый лес. Но в «некоторое время» он был безжалостно истреблен на потребности открытых еще в «казенное время» золотых промыслов, знаменитых по своим богатствам даже в летописях Урала. Остатки вековых башкирских боров были окончательно истреблены самым безжалостным образом частными золотопромышленниками.
В первый день едва сделали верст шестьдесят и заночевали в открытом поле. Поршнев опять не хотел, чтобы знали о его поездке, и даже отворачивался, когда по дороге кто-нибудь встречался. Узнают и будут; болтать, что Поршнев опять поехал золото искать. Примета самая нехорошая. Когда уже были на стану и сидели около огонька, подъехал кто-то верхом. Начинало темниться, и Поршнев не сразу узнал вершника.
— Мир на стану, Гаврила Семеныч!..
— Мир дорогой!..
— Куды наклался, на ночь глядя?
— А так… дельце наклевалось… Да это никак ты, Артамон Максимыч?
— Около того… Аль не узнал?
Это был знаменитый гуртовщик Гусев, поставлявший на промыслы киргизских баранов и быков. Он грузно спешился, со всеми поздоровался и особенно пристально посмотрел на Катаева.
— Из подрядчиков будете? — спросил он.
— Да, около этого…
— Коней у нас угнали, вот какой подряд выходит, — солгал Поршнев. — Едем в Теребинск выкупать.
— Дело известное… Теребинцы — первые конокрады, почище башкирцев будут.
Поршнев чувствовал, что Гусев не верит его выдумке, и был рад, когда он уехал.
— Отчаянная башка! — ворчал он, когда затих лошадиный топот. — Ведь все знают, что он с деньгами ездит… Ночное время, а в поле один Никола бог.
Огибенин задал лошадям сена и, свернувшись клубочком у огонька, сейчас же заснул. Катаев достал из внутреннего кармана завернутый в платок кусок змеевика со вкрапленным в него золотом, которое можно было рассмотреть простым глазом. Поршнев долго рассматривал этот мудреный камень «со знаками» и только покачивал головой.
— Не случалось такой оказии видеть, Егор Спиридоныч… Настоящее жильное золото обязательно в кварце.
— А кто ему указал непременно в кварце быть? Это змеевик-камень. Я показывал его знакомому штейгеру, — он одобрил и даже весьма. «Хоть бы, — говорит, — пес, да яйца нес». У меня заявка сделана уж года с два, да все как-то руки не доходили. А вот нынче собрался и своего паренька туда послал еще перед пасхой, чтобы орудовал.
— Вязковат камень-то, Егор Спиридоныч! Трудно его будет из породы добывать, да и золото из него тоже не скоро выковыряешь.

Роман русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото» (1892) о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.