В поисках универсального сознания - [3]
«Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру. Русская философия не давала до сих пор „мировоззрения“ в том смысле, какой только и интересен для русской интеллигенции, в кружковом смысле. К социализму философия эта прямого отношения не имеет, хотя кн. С. Трубецкой и называет свое учение о соборности сознания метафизическим социализмом; политикой философия эта в прямом смысле слова не интересуется, хотя у лучших ее представителей и была скрыта религиозная жажда царства Божьего на земле. Но в русской философии есть черты, роднящие ее с русской интеллигенцией, — жажда целостного миросозерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры. Вражду к отвлеченному рационализму можно найти даже у академически настроенных русских философов. И я думаю, что конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национального философского творчества и мог бы создать национальную философскую традицию*, в которой мы так нуждаемся. Быстросменному увлечению модными европейскими учениями должна быть противопоставлена традиция, традиция же должна быть и универсальной, и национальной, — тогда лишь она плодотворна для культуры.
* Истина не может быть национальной, истина всегда универсальна, но разные национальности могут быть призваны к раскрытию отдельных сторон истины. Свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии» (стр. 18–19).
Но традиция не «должна быть» — традиция складывается или есть, и она такова, какой она многопричинно сложилась. То, что начинают изобретать, конструировать или вычленять из традиции или «планово» культивировать как нечто долженствующее стать традицией, — это уже идеология (программа), а не традиция. Традиция — явление непрерывно становящееся. И если она долгое время остается неизменной, или, напротив, исчезает, или становится, то не по предписанному философом долженствованию, а как равнодействующая бесчисленных сил. «Привитое», приказнуе может стать и традицией, но — ох как нелегко и не скоро!
Однако российский интеллигент, да еще (все-таки) вчерашний марксист не может не строить единственно правильную «традицию».
Слишком часто в отношении к столь непредсказуемому и, по определению, свободному роду творчества, как философия, Бердяев употребляет понятия долженствования, правильности-неправильности и т. п.: «…нуждается в философской объективации и нормировке в интересах русской культуры…», «необходимо сочетать с аполлоническим началом…», «необходимо привить…», «интеллигентское сознание требует радикальной реформы…», «очистительный огонь философии…» (разрядка моя. — Д. Ш.). Перечитайте статью Бердяева — и вы почувствуете, что в этих отрывках живет дух целого.
Философ не садовник, прививающий к дичку им, садовником, выбранный культурный сорт. Он — познающий. Он может делиться постигаемым. Но внедрение «правильного» способа миропостижения («правильной» философии) — не миссия философа. Это другая специальность.
Очень симптоматична концовка статьи Бердяева:
«…философия есть орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной и национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России. Это давно желанное и радостное возрождение, пробуждение дремлющих духов требует не только политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти политики, той эмансипации мысли, которую до сих пор трудно было встретить у наших политических освободителей*.
* Примеч. ко 2-му изд. Политическое освобождение возможно лишь в связи с духовным и культурным возрождением и на его основе» (стр. 21–22).
Я не знаю, индивидуально или соборно и сверхиндивидуально философское творчество (как не смогла бы наполнить надежным содержанием термины «универсальная традиция» и «национальная традиция»). По моему представлению, каждый решает задачи миропостижения во взаимодействии со всем тем, что (и кого) он впитывает или отклоняет, но в конечном счете индивидуально. Меня и в этом отрывке поражает привычность для «советского» уха бердяевской лексики. Фраза: «Укрепление такой традиции должно способствовать…» — просто взята из памятки Дома культуры, разрабатывающего «новые традиции» взамен отмененных ритуалов («октябрины» вместо крестин, «комсомольская свадьба» вместо венчания, «возложение цветов к памятнику Ленину» вместо хождения к святым местам и пр.).«…требует не только политического освобождения, но и…» — значит, политического, само собой разумеется, «но и»?.. Это в 1909 году!
«…у наших политических освободителей» — кто же это? В каком кругу, слое, обществе, кабинете присутствовали в это время «политические освободители» российского интеллигента? Столыпин был символом гнета, реакции. Авторы «Вех» его не заметили. Бердяев бранит и народников, и эсдеков, и тем паче большевиков. Он не кадет. Кто же они, его «политические освободители»? Штамп, фраза.
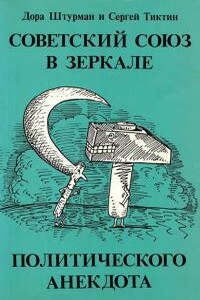
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Штурман (Тиктина) Дора, литературовед, историк литературы, автор цикла книг и статей (1978–1996) по историческому и систематическому документальному исследованию демократического и тоталитарного строя и смежных проблем, опубликовано 14 книг и около 400 статей в журналах и газетах Израиля, США, стран Западной Европы, России, Украины, Казахстана, в том числе: «Наш новый мир» (1981, 1986), «Советский Союз в зеркале политического анекдота» (в соавторстве с С. Тиктиным, 1987), «Городу и миру» (о публицистике А.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
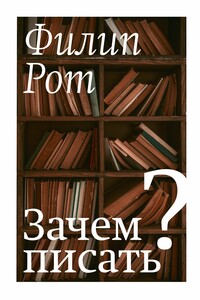
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
