В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 - [23]
— Что ты гово-ришь?! — внезапно побледнев, произнес кто-то из слушателей тихим, упавшим от волнения голосом.
Разговор происходил в мастерской, где чинились обувь и арестантская лопоть, но где, кроме мастеровых, присутствовала постоянно кучка постороннего народа. Сапожники выронили из рук свои колодки, портные побросали иголки. Все обступили пронырливого мордвина, всегда улыбавшееся лицо которого было на этот раз серьезно и почти строго.
— Неужто всех, братцы, выпустят? Да кто тебе сказывал, Буланов?
— Сама есаулша. «Я, говорит, тебе, Буланушка, потихоньку от барина сказываю, потому оченно строго скрывают пока. Обрадуй ты своих товарищей-колодочников: две трети со всего строка скидывается им по манифесту!»
— Две трети? Ну, значит, все же не сразу выпустят?
— Поросячья твоя голова! — зашумела внезапно кобылка, набрасываясь на разочарованного товарища, зашумела, словно очнувшись от тяжелого столбняка. — Тебе этого еще мало?
— А законную-то треть ты забыл? — приступил к нему в числе прочих и Шматов (он же Гнус), тяжело, прерывисто дыша по обыкновению, возбужденно жестикулируя рукой и шевеля длинными тараканьими усами. — Законную-то треть забыл? Она ведь не отымется от тебя.[7] Ну, оно и выйдет так, что при двух третях по царскому манафесту все пойдем на волю, кроме долгосрочных!
С бешеным весельем и стремительной поспешностью рассыпались тюремные «вестники» по камерам, и вскоре все тюремное население знало новость и обсуждало ее со всех сторон и во всех подробностях. Вернувшись из рудника, услышал о ней и я с товарищами, но мы стали смеяться над легковерными. Арестанты слегка даже обиделись, хотя ни в ком из них и не было еще непоколебимо твердой уверенности.
— А вот я схожу сейчас к эконому, — решил Юхорев, — прямо вытрясу из шепелявого дьявола правду-матку!
Возвратившись из этой рекогносцировки, он с самой забористой руганью обрушился на Буланова и на всех, кто уверовал было в его сообщение: эконом клялся и божился, что никакой бумаги Лучезаровым ниоткуда не получено и что все это одна арестантская выдумка. Кобылка повесила носы. Когда общее негодование было излито на портного, смутившего общий покой, тюрьма затихла и стала, казалось, вдвое печальнее и мрачнее, чем была раньше. Так прошел день или два.
И вот снова началось какое-то шушуканье по углам… «Манифест», «две трети», «милость» — опять доносилось до нашего слуха, не вызывая, впрочем, с нашей стороны большого внимания. Однако и мы невольно насторожились, когда Юхорев пришел раз от эконома и заявил:
— А ведь точно есть что-то… Обманывает шельма косноязычная, скрывает!
И в тот же день открыто начали повсюду говорить, будто уже сам Шестиглазый объявил многим из вольнокомандцев о большой милости, о том, что на днях в тюрьме будет молебен, после которого и прочитают о двух третях.
Что действительно «что-то есть», в этом почти нельзя уже было сомневаться; оставалось скептически относиться к слуху о такой большой сбавке.
— Возможно ли это? — говорили мы. — Как правительство решится сразу выпустить на свободу чуть не несколько десятков тысяч человек, которых накануне оно считало опасными для общества элементами и держало на цепи?
— А почему же и нет? — возразил увлекающийся Башуров. — Во-первых, и выпущенные, они останутся все же в Сибири, на которую принято глядеть как на место стока общественных нечистот; а во-вторых, я думаю, если позаботиться дать этому пароду работу и кусок хлеба, то опасности ровно никакой не будет.
— Откуда же взять столько кусков?
— Как откуда? Да ведь и в тюрьме каторжных нужно кормить? Но, главное, вы забываете, господа, об одном свойстве человеческой души: преступная она, а все же человеческая… Ведь подобная «милость», несомненно, вызвала бы в людях такой взрыв энтузиазма, такой высокий подъем духа, что — кто знает? — быть может, эти люди могли бы переродиться нравственно… Вы смеетесь? Ну, если не совсем переродиться, то хоть сделаться восприимчивыми к нравственному воздействию. Надо только не упустить момента, надо, чтобы правительство и общество позаботились посеять доброе семя в этой размягченной почве. Подобным семенем, мне кажется, прежде всего могло бы явиться доверие к несчастному, отверженному человеку!
Такого рода теоретические споры вели мы по поводу сенсационного слуха, колеблясь то в сторону веры, то сомнения.
Беседа в руднике с Петушковым окончательно сбила меня с толку. Он клялся и божился, что сам собственными глазами читал бумагу и что в ней прямо говорится о двух третях скидки.
— Я слышал вчера, — прибавил Петушков, — как сам Лучезаров говорил военному начальнику: «По расчету в тюрьме должно остаться всего семь человек».
— Значит, все-таки останутся? Кто же это?
— Кто-нибудь из вечных, из таких, что уж вовсе нельзя выпустить.
— А мы думали, что всю тюрьму упразднят и всем надзирателям от места откажут.
— Проня и то опустил было голову. «Как же, говорит, теперь инструкция? Для кого ж она?» Ну да я утешил его; кабы и ни единого арестанта в тюрьме не осталось, надзиратели б, говорю, остались! Друг дружку б караулили, покаместь новую кобылку б не пригнали… Ха-ха-ха! Халудора его, побери!
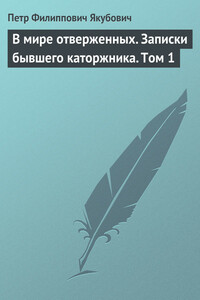
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.В восьмой том вошли романы «Золото» и «Черты из жизни Пепко».http://ruslit.traumlibrary.net.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.