В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 - [15]
Кажется, Данте сказал, что всего тяжелее в минуты горя вспоминать дни блаженства? Вот и мне теперь мучительно больно. Буду поэтому краток. Мы все время думали, что стоит мне немедленно креститься, и нам позволят обвенчаться и мы уже не расстанемся больше… И как же мы были поражены, когда узнали, что каторжным позволяют жениться лишь по окончании какого-то там испытуемого и исправляющего срока, и что для меня этот срок — семь лет! Иркутск был конечным пунктом, до которого нам предстояло идти в одной партии, и новая разлука наша, разлука на целых семь лет, отсрочивалась всего на два месяца… Блаженные и вместе страшные это были месяцы, когда мы непрерывно чувствовали висящий над головами дамоклов меч. В Иркутске мы, по обычаю, посажены были в различные отделения — я в мужское, Елена в женское, которое было где-то на другом дворе. Видеться нам удавалось только во время прогулок по тюремному садику. Все говорило о близкой разлуке, все наводило на мрачные размышления и предчувствия. И разлука подошла совершенно неожиданно. Раз вечером, в половине декабря, к воротам тюрьмы подкатила тройка, и меня пригласили в тюремную кузницу для заковки в кандалы (перед тем врач распорядился временно расковать меня). Многого стоило мне уломать смотрителя привести туда же Елену, чтобы мы могли проститься, и в то время как я сидел на полу кузницы, а кузнец возился около меня с молотком, заклепывая наглухо кандалы, я услышал знакомые торопливые шаги… Мы словно поменялись в этот вечер ролями: прежде я все время был уныл и мрачен, Елена же — бодра и весела на вид; ее вечный серебристый смех и кажущаяся беззаботность насчет будущего порой даже раздражали меня… Теперь, в виду так неожиданно нагрянувшей и ничем уже неотвратимой беды, я, напротив, чувствовал себя сильным, смелым, я говорил слова утешения и надежды, а в ее затуманенных, потемневших глазах дрожали все время крупные, светлые слезы… До тех пор я ни разу в жизни не видел ее плачущей… Из кузницы она пошла провожать меня и за ворота тюрьмы — смотритель не счел почему-то нужным протестовать. Никогда не забуду того морозного, торжественно-тихого вечера; звезд на темном небе горело видимо-невидимо… Когда я сел наконец в повозку рядом с двумя усатыми конвоирами, продрогшая тройка почти сразу дернула и сумасшедшим галопом помчалась в снежную даль. Обернувшись я долго кричал что-то Елене, не помню что: мне все казалось, что между нами осталось что-то недосказанное, невыясненное и в то же время необыкновенно важное… Должно быть, я кричал какие-нибудь пустяки! Долго еще казалось мне, что я различал в сумраке звездной ночи, как возле белой тюремной стены у фонаря стояла знакомая, грустно поникшая фигура…{11}
Штейнгарт замолчал, и я чувствовал, что вот-вот он не выдержит и разразится рыданиями. У меня самого не отыскивалось утешающих слов. Я спросил только:
— Вы знали, разлучаясь, что вам не позволят вести официальную переписку?
— Да, конечно, знали, хотя на всякий случай (он, как видите, и представился) Елена обещала изредка писать. Вообще же мы условились переписываться через одну из моих теток, женщину образованную и давно посвященную в наши отношения. Живет она в Минске. Итак, подумайте, Иван Николаевич, через сколько времени я буду получать известия об Елене, а она обо мне? Не раньше как в пять месяцев письмо совершит это кругосветное путешествие!{12} Да, Лучезарову за передачу этого письма я ужасно благодарен; должно быть, и его оно тронуло… А я, Иван Николаевич, чувствую, что все во мне переменилось… Елена требует во имя нашей любви, чтоб я вытерпел здесь все, что только не затронет моего человеческого достоинства, — и я исполню ее желание.
— Так вот в чем секрет, что Лучезаров передал вам это письмо! — неосторожно вырвалось у меня.
Штейнгарт задумался.
— Пожалуй, вы правы… Ну да все равно! Я буду терпеть все, что только не затронет нашего человеческого достоинства. Ведь вы же терпели? Они терпят!
— Ну, о них мы еще успеем поговорить, теперь не время… да и не место, — прибавил, я по-французски, — вон Луньков, кажется не спит.
Мы еще поболтали некоторое время. Штейнгарт выразил вслух удивление тому, что так разоткровенничался со мной.
— А разве вы жалеете?
— О нет! Нисколько!
Он горячо пожал мою руку.
— Я чувствовал, — сказал он задушевно, — мертвец над мертвецом не станет смеяться… Знаете ли, Иван Николаевич, мне все время так и кажется, что это-то и есть так называемый «тот свет» — мир, в котором мы живем теперь с вами. И я рассказывал вам сегодня о своей земной жизни, далекой и навек уже невозвратной!
После этого мы замолчали и решили попытаться заснуть.
Но сон долго еще не шел. Выслушанный рассказ пробудил в душе столько давно уснувшего, позабытого… Глубокая, жгучая тоска охватила меня… Штейнгарт также до поздней ночи ворочался с бока на бок на своей жесткой постели.
IV. По-новому
Свисток надзирателя прервал мой сон на самом интересном месте. Мне снилось, что я еще гимназист, юноша лет четырнадцати, что в шумном классе я сижу одинокий и нелюбимый товарищами. Все глядят на меня с насмешкой и явным пренебрежением, хотя причина этой насмешливости ускользает от моего сознания. Мне горько, мне бесконечно обидно несправедливое отношение ко мне товарищей, но я бы всем пренебрег, все бы вынес, если бы заодно с ними не был и тот, в кого я влюблен со всем пылом первой юности, кого считаю недосягаемым для себя образцом, идеалом ума, геройства и талантливости. Кто, собственно, этот любимый товарищ, я не могу дать себе ясного отчета: в его лице есть и черты дав» о мной забытые, черты какого-то действительно существовавшего у меня гимназического друга, и черты совсем новые, мучительно мне знакомые. Вот профиль строгого бледного лица с насупленными черными бровями… Ах, почему он не хочет глядеть на меня, зачем отворачивается? Неужели и он так же ошибочно понимает меня, как все, не знает того, что я один разгадал его душу, один могу искренно и пламенно любить ее. Под влиянием моего пристального влюбленного взгляда юноша вдруг поворачивается в мою сторону… Я жду встретить сердитые темные глаза, прочесть гнев на этом строгом лице, и вместо того — боже! Передо мной лицо, все залитое слезами… Добрые, любящие глаза глядят с трогательной мольбой, дрожащие руки протягиваются ко мне.
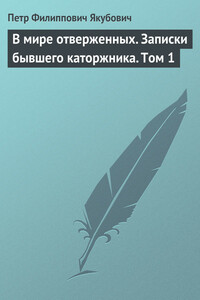
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.