В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 - [12]
— Откройте! — услышали мы оттуда повелительный голос начальника. — Понюхайте!.. Нет, вы понюхайте хорошенько!
Слышно было, как надзиратели один за другим подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смеясь, переглядывалась.
— Вот что! — заговорил Лучезаров, появляясь опять в камере. — Староста и парашники плохо знают свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите, я строго буду взыскивать.
И быстрыми шагами почти выбежал в коридор; со стуком и грохотом проследовала за ним свита, дверь захлопнулась, и замок щелкнул. Арестанты зашумели, засмеялись и принялись за свои обычные беседы и занятия.
Штейнгарт, склонившись над столом, читал при тусклом свете лампы полученное письмо, и мрачное лицо его с густыми нахмуренными бровями напоминало мне первый момент нашей встречи. Сердце мое болезненно сжалось… Я чувствовал себя опять одиноким, ревниво размышляя о том, что у этого человека есть и всегда будет свой особый мир, в который я никогда не проникну и в котором он будет страдать и радоваться один, замкнуто и молчаливо. Я лег в свой угол, предаваясь этим грустным думам; а товарищ долго еще сидел над письмом, чтение которого, по-видимому, давно было окончено. Затем, поднявшись, он стал ходить в глубокой задумчивости взад и вперед по камере. Луньков и Сохатый, разложив свои тетради, сидели за столом и переругивались.
III. Рассказ Штейнгарта
Было уже совсем поздно. Арестанты, не исключая и учеников, давно исправно храпели, когда Штейнгарт, взобравшись на нары, начал устраивать свою постель рядом с моею.
— Вы еще не спите, Иван Николаевич? Знаете, от кого я письмо сегодня получил? — неожиданно вполголоса заговорил он, заметив, что я не сплю; и, взглянув ему в лицо, я радостно вздрогнул: опять оно было светлое, доброе, и темные глаза сияли из-под разглаженных бровей как две звезды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.
Я, конечно, не знал, от кого было письмо. От матери? Сестры?
— Нет, от невесты, — сказал Штейнгарт грустным, растроганным голосом. — Вот уж никак не надеялся! Сегодня во время приемки Лучезаров прямо заявил, что будет выдавать письма только от ближайших и несомненных родственников, все же остальные сохранит у себя вплоть до нашего выхода на поселение. Это, мол, закон, нарушить который невозможно. И вдруг — приносит вечером это самое письмо… Признаюсь, Иван Николаевич, за этот великодушный поступок я многое готов простить Лучезарову и с очень многим в его режиме примириться!
— Да, я видел, какое впечатление произвела на вас поверка.
— Ужасное! Но… знаете ли, о чем просит меня невеста? Впрочем, мне уж хочется все рассказать вам, всю нашу грустную повесть. Конечно, это личные муки и радости, и вам они покажутся, быть может, неинтересными…
— Что вы, Дмитрий Петрович! Я боюсь только, что не заслужил еще подобного доверия с вашей стороны.
— Нет, я чувствую, вам можно довериться… Все, от сердца сказанное, вы сердцем же и примете. Для меня же… Я так устал про себя таить свои думы и муки!
— А Валерьян Михайлович? Разве с ним вы не дружны?
— Видите ли… Я очень люблю Валерьяна, но мы с ним не друзья. Он слишком еще юн, и в нем есть черты, которые не располагают к излияниям. Ну, словом, вы сами потом узнаете. Во всяком случае, моя интимная жизнь ему известна лишь в самых общих чертах. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?
— Вы еврей? Никогда бы этого не подумал! Да и ваше имя…
— Ну, имя-то ничего не значит. По-настоящему я вовсе не Дмитрий, а Мордух, и не Петрович, а Пейсехович, но ведь это так дико звучит по-русски… Однако, скажите откровенно, Иван Николаевич, в вас ничего нет юдофобского?
Я засмеялся.
— К счастью, нет. Могу сказать это положа руку на сердце. Я родился и вырос в северной глуши, где и евреев-то почти нет. Поэтому, когда я поступил в Петербургский университет, то каждого черного хохла, говорившего «хадость» вместо «гадость» — принимал долгое время за еврея. И после того у меня было несколько лучших товарищей и друзей из евреев.
— Очень рад. Вы снимаете с моего сердца тяжелый камень. Поверите ли, Иван Николаевич, какие подлые вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, по-видимому, люди не стесняются громко и открыто произносить слово «жид» и высказывать презрение и ненависть к евреям. Тем больнее все это видеть и слышать человеку, который, будучи, как я сам, евреем, в сущности ничем, кроме происхождения, не связан с родным племенем. Но когда со всех сторон летят в этот несчастный народ плевки и каменья, то можно ли спрашивать, что я должен чувствовать и кого любить?.. Да, этот проклятый еврейский вопрос был проклятием и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?
— Я весь внимание.
— Итак, расскажу вам свою историю.{8} Я был еще студентом второго курса, когда познакомился с теперешней моей невестой. Мне было двадцать три, Елене двадцать лет. Оба мы проникнуты были тем «святым недовольством», о котором говорит Некрасов, — одинаково восторженны, наивны, молоды душой… Этим все сказано — и как и на какой почве создался наш роман. Помните ли вы весенние петербургские ночи, эти чудные белые ночи с их фантастическим колоритом и болезненной грустью, точно разлитой кругом в воздухе? Помните ночные катанья в лодках по Неве и по взморью в компании других таких же восторженных мечтателей? Или — зимние студенческие вечеринки с шумной пляской и отважными песнями? Впрочем, я лично с наибольшей любовью вспоминаю теперь другую картину. Мне рисуется комнатка Елены на Песках, маленькая, уютная комнатка… На столе давно потух самовар, а мы до полночи сидим при свете лампы и ведем бесконечную беседу, О любви? О нет, реже всего и меньше всего о любви! Всё важные и серьезные материи: мы перестраиваем жизнь человечества, решаем судьбы мира, собираемся идти на великий подвиг служения народу… Случалось, Елена вспоминала наконец, что ей нужно учить лекции, что и мне самому не мешало бы подумать о том же; тогда она принималась гнать меня домой. Мы начинали прощаться, но, прощаясь и держась уже за руки, опять увлекались надолго то серьезной беседой, то чисто ребяческой болтовней. Я стоял все время у порога комнаты, совсем уже одетый, и мы никак не могли расстаться, десять раз подавая друг другу руки и десять раз возобновляя беседу. Обо всем мы тогда поговорили, обо всем передумали, одно только позабыли, что я — еврей, а она — православная… Все в наших отношениях представлялось нам так просто и ясно: мы полюбили друг друга и, значит, всю жизнь будем идти рядом, рука об руку, «без размышлений, без борьбы, без думы роковой»…
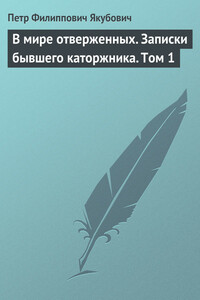
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.