В конце зимы - [8]
— Солнца-то нет, — угрюмо сказал он.
— А ты лучше смотри, лучше!
Бледные, будто водой разбавленные краски заката синевато-розово ложились на опутанные проводами крыши и панельные стены, на заснеженные верхушки деревьев, озаряя и тонко подчеркивая снизу вислые седые брюха вздыбленно наползающей гряды облаков; точно затухающие угли, подернутые пеплом, сумеречно пламенели стекла противоположного дома.
Удерживая Важенина за локоть. Проценко с силой передернул шпингалеты и распахнул рамы окна. Обоих обдало чистым морозным воздухом — защекотало в ноздрях, задурманило головы.
— Дыши, дурачок! Дыши, смотри и радуйся, что дышишь, что живешь! — остервенело говорил Проценко. — А то повыдумывал: статья! как жить!.. Все! к чертям собачьим. Пошли в гастроном.
В этот вечер Важенин напился вдрызг.
Ему было приятно слушать Проценко, чей хрипловатый, самоуверенный басок, полный энергии, удальства и задушевной простоты рубахи-парня, очаровывал его, время от времени пробуждая в его захмелевшем сознании будто бы дремавшие до поры, еще не познанные, неистовые, неукротимые силы, почувствовав которые, он уже не мог усидеть и, с грохотом опрокидывая стул под собой, вскакивал, бешено вращал помутневшими от гнева зеленоватыми глазками и все порывался куда-то идти. Но ткнувшись в широченную Проценкину грудь, выраставшую на его пути, возвращался снова к столу и завывал в бессильной, клещами стискивающей горло, злобе.
Сочувствуя, Проценко пододвигал ему очередной стакан, совал краюху хлеба, кусок колбасы или соленого огурца и пускался в какие-нибудь пространные глубокомысленные рассуждения о жизни, из коих явствовало всякий раз почти одно и то же: счастья на чужом горе не построишь. И Важенин успокаивался, притихал, и грудь его распирало от умиления: как все это правильно!.. И мысли о жене, о дочери постепенно рассасывались, как загноившаяся опухоль, на которую наложили примочку целительного бальзама, и он уже сам начинал говорить о чем-нибудь постороннем, — но чаще и злее всего, преследуемый неотвязными думами о несправедливой устроенности мира, о последнем визите в свое управление:
— Нет, ты понимаешь, Саня, обидно! — стучал он кулаком по столу. — Она заявляет: «Важенин, мы были о вас хорошего мнения…» Это она мне заявляет, мне, работяге! Сидит у себя в кабинете на жалком окладишке в сто двадцать рублей, а вся увешана золотом — так и сверкает! А откуда у нее средства?.. А-а, — ухмылялся он, тряся указательным пальцем. — Да если бы не я, работяга, она бы шиш имела вместе со своим «мнением». Вот, шиш ей!..
— Держи… держи, тебе говорят! Да не махай ты руками! — подносил ему Санька. Важенин выпивал, делал на лице кислое выражение, хватался за папиросы и немедленно продолжал:
— А квартиру она имеет? Имеет. А садик для ребенка имеет? Имеет. Ну, и прочее там, и прочее!.. А кто все это построил? — соловел он все больше. — Я, работяга, вот этими грязными руками, которыми они брезгуют. «Фу-фу, Важенин, вы бы хоть под ногтями почистили!» — это мне одна балаболка сказала из отдела труда и зарплаты, когда бегунок мне подписывала. Ну конечно, откуда ей знать, что если бы у меня были такие же наманикюренные пальчики, как у нее, она бы с голоду подохла! без крыши бы сидела!..
— А ну-ка поешь, поешь, а то совсем уже окосел, — подсовывал ему закуску Проценко. — Курево, оно, брат, отрава еще похлеще, чем водка!
Важенин послушно брал со стола хлеб, укладывал на него ломоть колбасы, жевал, одновременно смахивая неуверенными движениями ладони хлебные крошки, прилипавшие к мокрому подбородку, и, совсем уже захмелев, машинально досказывал заплетающимся языком:
— И ведь что непонятно! — тянулся он к Саньке и цеплялся за его рукав. — Когда я вышел из кадров, то всему управлению уже было известно, что меня вытурили по статье. А откуда? как? — черт его знает!.. Иду по коридору, спускаюсь по лестнице, а кто-то уже за спиной говорит: «А за что его так?» Ему отвечают: «Ясное дело — за пьянку». А я, веришь ли, за весь этот месяц ни грамму не выпил. Ну вот даже ни грамму! — соединил он пальцы в щепоть. — А кто-то третий уже тихо подсказывает: «А почернел-то как, а согнулся! Да-а, Иван Тимофеич, водка, она до добра не доводит! Явился бы трезвым, так, может, еще обошлось бы. Сам дурак…»
— Ах-ха-ха! — заливался хохотом Санька, всплескивая длинными, перевитыми жилами руками, по которым ездили, обнажая их, не по росту короткие, мятые рукава пиджака; и из глубины его развесистого рта, когда он запрокидывал лохматую голову, виднелись недожеванные огуречные ошметки. Потом он успокаивался, но все еще продолжая гыгыкать и поматывать головой, закуривал папироску и как-то мудрено, чуть ли не по-книжному изрекал:
— Да-a, ничего не поделаешь, милый мой! Видишь ли, дело в том, что люди уж так устроены, что они особенно склонны, повторяю — особенно склонны замечать отрицательное. И даже если его нет, они выдумывают его сами. Чтобы было о чем посудачить, понимаешь? Чтобы жить интереснее было!.. Жизнь — это спектакль. Люди — это актеры. Но режиссера у них нет. А их создатель бросил их на сцену жизни еще черт-те когда, повелел им зарабатывать хлеб в поте лица, размножаться, да и постепенно забыл об их существовании; видимо у него появились другие делишки, более важные, нежели наблюдать за Землей. И предоставленные сами себе, они вынуждены сами выдумывать и сценарии, заботиться о смене масок на разное время дня и на разные обстоятельства. А так как режиссера у них нет, то им и подсказывать некому, что у кого на душе, вот они и вынуждены сами оделять себя ролью, но только такой, на какую способен их мозг — ни больше ни меньше…
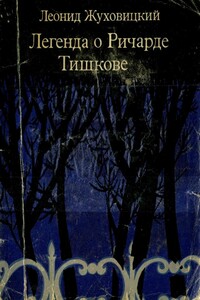
Герои произведений, входящих в книгу, — художники, строители, молодые рабочие, студенты. Это очень разные люди, но показаны они в те моменты, когда решают важнейший для себя вопрос о творческом содержании собственной жизни.Этот вопрос решает молодой рабочий — герой повести «Легенда о Ричарде Тишкове», у которого вдруг открылся музыкальный талант и который не сразу понял, что талант несет с собой не только радость, но и большую ответственность.Рассказы, входящие в сборник, посвящены врачам, геологам архитекторам, студентам, но одно объединяет их — все они о молодежи.

Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары— умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода…

Советские геологи помогают Китаю разведать полезные ископаемые в Тибете. Случайно узнают об авиакатастрофе и связанном с ней некоем артефакте. После долгих поисков обнаружено послание внеземной цивилизации. Особенно поражает невероятное для 50-х годов описание мобильного телефона со скайпом.Журнал "Дон" 1957 г., № 3, 69-93.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.Собрание сочинений в десяти томах. В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим…», «В горах» и «Золотая ночь».

«Кто-то долго скребся в дверь.Андрей несколько раз отрывался от чтения и прислушивался.Иногда ему казалось, что он слышит, как трогают скобу…Наконец дверь медленно открылась, и в комнату проскользнул тип в рваной телогрейке. От него несло тройным одеколоном и застоялым перегаром.Андрей быстро захлопнул книгу и отвернулся к стенке…».