В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы - [26]
Жизнь в тюрьме начиналась около шести часов утра. Пробуждение вызывалось появлением в камере подследственного арестанта, очищавшего парашу, а потому было всегда очень неприятно. Вслед за тем слышны были выкрики в коридоре: «Кипяток, кипяток!», в дверях камеры отваливалось крошечное оконце, сквозь которое заключенный передавал свой чайник или казенную кружку, но чай нужно было иметь свой. Через час новые громкие возгласы: «Письма, прошения!» На звонок заключенного вновь откидывалось окошечко, и в щель подносимого тюремщиком ящика можно было опустить письмо или прошение, конечно, в незапечатанном виде. Около полудня разносился по камерам обед, еще через два-три часа прогулка, для которой во дворе отведен был большой круг, обнесенный высоким деревянным забором и разделенный такими же перегородками на пятнадцать сегментов; в каждый сегмент, длиной 8–10 метров, впускался один заключенный, а в центре круга возвышался сторожевой пост, на котором поворачивался во все стороны тюремный надзиратель, следивший за поведением гуляющих. Если встать на парашу, положив предварительно несколько книг на нее, то с грехом пополам можно было дотянуться до окна и, держась за его решетку, увидеть тюремный двор и гуляющих в сегментах. Было очень интересно наблюдать на ними: иные быстро шагали взад и вперед, другие рассыпали хлебные крошки, на которые слетались голуби, третьи спешили проделать гимнастику, а некоторые производили тяжелое впечатление опущенным в землю взглядом и полным безучастием ко всему окружающему.
Около четырех часов вновь подавался кипяток, потом ужин, и в девять часов гасилось газовое освещение, двери запирались на второй замок, но разрешалось иметь свечи и при их освещении работать хотя бы и всю ночь. От времени до времени заключенных водили в тюремную баню, тоже совсем опрятную, а в воскресенье и по праздникам желающие могли присутствовать в тюремной церкви… Раз, а то и два в неделю заключенному давались свидания с родными, и это, конечно, было самым желанным моментом в тюремном быту, хотя обстановка была угнетающая: заключенного вводили в клетушку, перед собой на расстоянии метра он сквозь другую решетку не без труда различал знакомое лицо посетителя и напряженно должен был вслушиваться в его слова, ибо клетушек было много, одновременно все были заняты и стоял оглушительный, раздражающий гомон, от которого после свидания наступала сильная нервная усталость.
Впервые я очутился в одиночестве, и мне, привыкшему и избалованному постоянным общением с людьми, оно давалось нелегко. Но, в сущности, настроение не изменилось: если выдавался яркий солнечный день и в открытое окно доносились с Литейного звуки конки, врожденное легкомыслие помогало бодрости взыграть, и стены камеры широко раздавались, а то и вовсе ускользали из глаз. Днем я много читал (помню перечитывание «Преступления и наказания» – в тюремной библиотеке, по-моему, Достоевскому не должно быть места), вслух декламировал Некрасова и иногда входил в такой раж, что в дверном окошечке вдруг появлялось усатое лицо надзирателя и раздавалась сердитая угроза перевести в карцер.
Но первым делом, только что оглянувшись, я вспомнил, что можно разговаривать с соседями постукиванием в стенку. Опять же по легкомыслию, своевременно не позаботился ознакомиться с тюремной азбукой и теперь тщетно пытался установить сношения с соседями. И вот однажды на прогулке я вдруг увидел на снегу небольшую блестящую трубочку, а потом и другую такую же и, когда надзиратель отвернулся, быстро поднял их и спрятал в карман. Вернувшись в камеру, с трепетом развернул свинцовые бумажки от конфет и внутри нашел две записки, на которых была написана тюремная азбука: тридцать букв по пяти в горизонтальном ряду разделялись шестью вертикальными рядами, и каждая буква определялась числом звуков соответственно занимаемому ей месту в горизонтальном и вертикальном ряду (например, е – один удар, чуть заметный перерыв и пять ударов). Уже через неделю я так наловчился, что бегло мог вести разговор. Но беда, что уголовные арестанты также вели разговоры по трубам центрального отопления, и приходилось быть невольным слушателем отвратительных, циничных бесед, и эти разговоры, от которых нельзя было укрыться, положительно отравляли существование.
Мой сосед задал мне тяжелую загадку. Он сидел несколько лет и даже был осужден уже на каторжные работы по обвинению в соучастии в убийстве с корыстной целью богатой старухи в Новгороде. Но так как на суде выяснились данные, указывающие на политический характер преступления, совершенного в интересах партийной кассы, то его продолжали держать как политического в целях раскрытия революционного сообщества. Мне впервые пришлось столкнуться с таким страшным, конкретным применением принципа «цель оправдывает средства», и это знакомство совершенно ошеломило. Я старался найти оправдание в утилитарной морали, которая, однако, давала больше удовлетворения рассудку, чем совести, и смутно уже тогда, в тюрьме я ощущал, что почва подо мной колеблется.
Смущение значительно усилилось, когда однажды на свидании вместе с кузиной, аккуратно меня посещавшей, появился и отец, поспешивший в Петербург на выручку. Не сомневаюсь, что ему было бы легче видеть меня в гробу (вернее сказать – мертвым, потому что видеть мертвого в гробу евреям не полагается), чем за решеткой. Об этом свидетельствовал его растерзанный вид, воспаленные глаза, всклокоченные волосы, он с трудом выдавливал из себя слова, явно опасаясь, что брызнут слезы. За отца говорила кузина, уверяя, что уже удалось найти протекцию, которая вызволит меня, но ее угнетенное настроение более красноречиво говорило об отражавшемся на ней душевном состоянии отца. Я вернулся в камеру совсем разбитый, охваченный тупой тоской, не хватало мужества принять на себя ответственность за нанесенный тяжкий удар, тем более что теперь разорение принимало уже угрожающий характер, и многочисленная семья возлагала все надежды на меня, как на будущую опору. Тревожно спрашивал я себя, нет ли эгоизма в моем увлечении идеей спасения России, которая обойдется без меня, и не благороднее ли принести себя в жертву интересам семьи, которой грозит нищета и распад. Но я чувствовал, что такая жертва будет напрасной. И мысленно начинал горячо и любовно убеждать отца, что не должен сходить с избранного пути, что «долг другой – и выше и святей – меня зовет», а потом опоминался, что отец и слушать не станет, а сразу скорбно скажет: поступай как знаешь! Это-то и было самое невыносимое. Встреть я сопротивление, нужно бы выдержать бой, я не задумался бы ринуться. Но непротивление, беспомощность, покорное принятие нанесенного удара звучало в душе громким упреком и бесплодно мучило совесть.
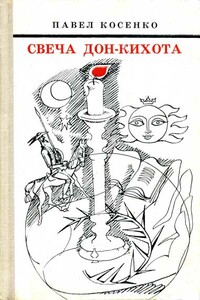
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.
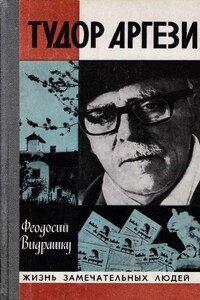
21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.
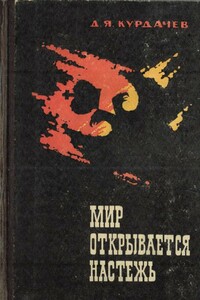
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
