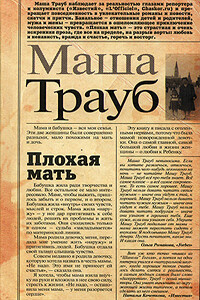Уважаемые отдыхающие! - [10]
А пока Ильич лежал без сна, прикрывая ладонью глаза от слепящего луча фонаря. Что ж, люди гуляют, отдыхают, их понять можно. Ресторан тоже должен работать и зазывать клиентов. На фонари и свет отдыхающие слетаются.
Была бы рядом с Ильичом женщина, Галина или какая другая, так давно бы встала, ругаясь, занавесила окно поплотнее, шторку лишнюю прицепила, придумала что-нибудь. Только не будет у Ильича ни Гали, ни какой другой женщины. Потому как опоздал он. С Галей точно. Они уже давно все пережили.
Он повернулся на другой бок, но фонарь добивал до стены. Ильич подумал, что завтра все-таки попросит Галю повесить лишнюю занавеску. Она придет, не откажет. Ни разу не отказывала, если Ильич просил. И Славик обрадуется. Он всегда радуется, когда Галя «в гости» приходит. Хотя ведь знает, что она тут, рядом, в соседнем номере. Но даже если так, то все равно в гости.
Ильич слышал, что Галя тоже не спит – окно открыла, потом прикрыла. Ходит по номеру. Может, прямо сейчас пойти, позвать? Но он знал, что не пойдет. Ни сейчас, ни завтра утром. Все равно нельзя. Все в прошлом, в другой жизни. В той, о которой и вспоминать не хочется.
Виктор Ильич, Ильич, всю жизнь прожил в этом поселке городского типа. Раньше – просто поселке, а теперь поселке «типа». Родился, правда, в городе – мать по серпантину везли, ели успели. Мать после родов даже в город не ездила – боялась серпантина до истерики. Ее тошнить начинало от одной мысли о дороге. Думали, пройдет, но не прошло. На машинах, хоть на каких, мать ездить отказывалась наотрез. Единственный вид транспорта, который она признавала, – троллейбус. На троллейбусе могла доехать до соседнего поселка, но все равно возвращалась бледная и еще целый день после поездки лежала пластом. Ильич-то с детства гонял – на мопеде, на старом «жигуленке». Дорогу знал с закрытыми глазами.
Времена изменились, дорогу новую сделали, а про фонари никто и не вспомнил. Местным-то водилам хоть бы хны – освещенная дорога или нет. А заезжие, которые на своих машинах из Москвы добираются, по ночной дороге сразу всем богам начинают молиться. Троллейбус как ходил, так и ходит. Вот уж чего новое время не коснулось.
Все пацаны из поселка мечтали уехать, уплыть, хоть куда. Половина одноклассников в мореходку сбежала. Кто-то в город, кто-то еще дальше. Ильич же никуда не рвался, не было у него таких мыслей. Ему нравилось здесь жить. Нравилось, что зимой поселок будто вымирал, оставались только свои, местные. И жизнь вроде как замедлялась. Чтобы весной, с мая, начать новый виток. Ильич любил жить от сезона к сезону с коротким перерывом на абсолютное затишье. Ему не становилось грустно. Он не страдал от промозглого ветра, который шарашил с моря. Ходил по пустой набережной, и ему нравилось, что она пустая, а поселок становился совсем другим. Настоящим. Без косметики, без фонарей, без грохочущей музыки.
Поселок напоминал женщин, которые приезжали на курорт и одну-две недели жили как в последний раз. Женщины перед поездкой выгребали шкафы, примеряли, отбрасывали ненужное, немодное. Срочно покупались обновки. Женщины укладывали в чемоданы лучшее белье, лучшие туфли и сразу все платья. И обязательно перед поездкой нужно было пойти в парикмахерскую – маникюр, педикюр, покрасить пробившуюся седину. Уже на отдыхе каждый вечер молодые девушки, женщины, замужние, разведенные наводили красоту, чтобы появились и ресницы, и губы, и идеальные локоны. Каблуки, летящие сарафаны…
Чтобы что? Это ж не отдых. Сплошное мучение. Отдых – это когда босиком по траве, без грамма косметики, волосы в пучок и зубы можно почистить к обеду. И можно надеть летний халат или даже сарафан, но никакого бюстгальтера. И плевать на то, что грудь повиснет. Пусть виснет. А здесь, у моря, – это же не отдых, а работа: нарядиться, накраситься, утянуться и выйти. Идти красиво, пока не начнет ныть выпирающая косточка. А сидеть за столиком ресторана нога на ногу, покачивая носком лишь слегка, не думая о том, что ноги от жары распухли, отекли и туфли превратились в испанский сапожок – впились. Очень хочется в туалет, но как представишь, что надо встать в этих туфлях и доковылять со второго этажа – столик-то с панорамным видом, над морем, так лучше уж потерпеть, пока терпится. После ресторана еще домой ковылять, но можно сбросить туфли и пойти голыми ногами. Такое счастье. Когда девушки улыбаются, держа в руках босоножки, это они радуются, что ноги отдыхают. Поэтому на фотографиях такое неприкрытое и искреннее счастье. И во взгляде вовсе не призыв и истома, а облегчение.
Так и поселок. Перед сезоном начиналась генеральная уборка – старые стулья выбрасывались, те, что еще ничего, мылись. Рестораны обновляли вывески, развешивали новогодние лампочки-гирлянды. Появлялись или новые скатерти, или посуда. А когда бархатный сезон заканчивался, поселок с облегчением сбрасывал ненавистную обувь. Лампочки перегорали, стулья сваливались в кучу, все запиралось, закрывалось. И становилось тихо, удивительно тихо. Ильич любил это время тишины. Когда только шум моря, крики чаек и все. Галя всегда страдала. Говорила, что с ума сходит от тишины. Ей нужны были люди рядом, разговоры, толкотня, звуки. Чтобы плакали и канючили дети, ругались мужчины, смеялись женщины. Ей нужна была жизнь вокруг. А Ильичу жизнь была не нужна. Он уже прожил свою. Так, что и вспоминать не хочется.

С момента выхода «Дневника мамы первоклассника» прошло девять лет. И я снова пошла в школу – теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. «Ча-ща», по счастью, по-прежнему пишется с буквой «а», а «чу-щу» – через «у». Но появились родительские «Вотсапы», новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное – моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.Маша Трауб.

Так бывает – тебе кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты – счастливчик, все у тебя ровно и гладко. И вдруг – удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, – не жизнь, не настоящая жизнь.Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать.Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что счастье продлится вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки…

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!
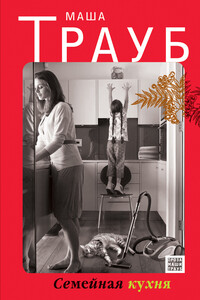
В этой книге я собрала истории – смешные и грустные, счастливые и трагические, – которые объединяет одно – еда.
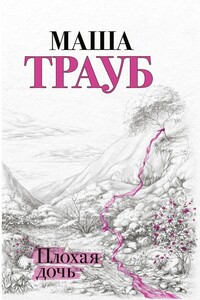
Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я начала ее писать спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. «Плохая дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее.

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Мама все время рассказывает истории – мимоходом, пока варит кофе. Истории, от которых у меня глаза вылезают на лоб и я забываю про кофе. Истории, которые невозможно придумать, а можно только прожить, будучи одним из главных героев.

Эта книга – сборник повестей и рассказов. Все они – о семьях. Разных – счастливых и не очень. О судьбах – горьких и ярких. О женщинах и детях. О мужчинах, которые уходят и возвращаются. Все истории почти документальные. Или похожи на документальные. Жизнь остается самым лучшим рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые не способна писательская фантазия.Маша Трауб.
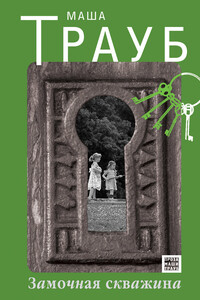
Я приехала в дом, в котором выросла. Долго пыталась открыть дверь, ковыряясь ключами в дверных замках. «А вы кто?» – спросила у меня соседка, выносившая ведро. «Я здесь живу. Жила», – ответила я. «С кем ты разговариваешь?» – выглянула из-за двери пожилая женщина и тяжело поднялась на пролет. «Ты Маша? Дочка Ольги?» – спросила она меня. Я кивнула. Здесь меня узнают всегда, сколько бы лет ни прошло. Соседи. Они напомнят тебе то, что ты давно забыл.Маша Трауб.

Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда бежать от собственных мыслей и чувств? И кому можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись ответы на все вопросы?