Утоли моя печали - [20]
Молчаливый, отстраненный, он редко улыбался, светлые глаза, глубоко посаженные под высоким бледным лбом, глядели не то печально, не то устало. Когда я с ним заговаривал, он отвечал вежливо, приветливо, но коротко, немногословно и спешил отойти: «Работать надо… Простите, срочное дело… Простите, голова очень болит. Устал… Виноват, должен быстро прочитать эту книгу…»
На прогулку он выходил с лопатой и с метлой и подолгу, старательно чистил снег или вышагивал сосредоточенно-задумчиво по узкой тропинке. Все же мы постепенно узнали, что он инженер-механик, машиностроитель, москвич, но долго работал в Сибири, сидит уже 10 лет, с 1938 года, осталось еще пять, осужден по 58-й статье, пункты 7 и 9 (т. е. вредительство и диверсия) — обычные «профессиональные» (инженерские) пункты, — на 15 лет. На вопросы об этом он отвечал неохотно и скупо: «Простите, неприятно вспоминать…»
Летом 1948 года я получил первое за много месяцев разрешение на свидание с родными. В тюремной кладовой имелись специальные нарядные костюмы для «свиданок», цветные рубашки и галстуки. Эта показуха была противна, и я решил оставаться в своей армейской гимнастерке, еще достаточно пристойной на вид. Начальник тюрьмы позволил, но велел «обуться поприличнее», — мои сапоги уже доживали многотрудный фронтовой и лагерный век. Однако в кладовой не оказалось никакой обуви моего размера. Я испугался. Из-за этого дежурный мог отменить долгожданное свидание…
Р. молча протянул мне великолепные хромовые «романовские» сапоги. Они оказались как раз впору.
Конвоиры с плохо скрываемой завистью глядели, как я шагал, поскрипывая едва ли не по-генеральски. На свидании мама сочла матовый глянец роскошных сапог свидетельством растущего благосостояния отечественных тюрем. К тому же другие арестанты — в тот день мы все сидели вдоль длинного стола в клубе охраны Таганской тюрьмы — были в новехоньких костюмах, сияли пестрыми галстуками.
Мама и Надя передали целый мешок разных харчей. И Солженицын тогда получил вкусную передачу. Мы устроили пир за библиотечными стеллажами, я притащил упиравшегося Р.; он вежливо съел какую-то малость и поспешил уйти, сославшись на срочную работу.
Два дня спустя дежурила смена наиболее покладистых вертухаев. К вечеру они так увлеклись личными заготовками стройматериалов, что, не стесняясь заключенных, подогнали «левый» грузовик вплотную к забору и даже подозвали некоторых зеков таскать ворованные бревна, доски, мешки и ведра с алебастром и краской, пакеты провода и т. п. При этом они все же «соблюдали режим» — машину, не имевшую пропуска, не вводили во двор шарашки, а подсобников-заключенных не пускали дальше запретной зоны — полутораметровой полосы вдоль забора. Оттуда они уже сами, кряхтя и матерясь, перекидывали свои трофеи, стараясь не повредить колючую проволоку, натянутую по гребню каменной ограды.
Зато мы все могли гулять хоть за полночь, а в лабораториях и в библиотеке чувствовали себя и вовсе беззаботно.
В тот вечер я оказался один на нашей тропе. Гулял, стараясь не видеть колючей проволоки и вышек на углах ограды, а только снег, кусты, деревья и звезды.
Подошел Р. Мы шагали рядом, я пытался что-то рассказывать… Внезапно он заговорил, глядя в сторону, глуховато и словно сдавленно:
— Вот что… я хочу объяснить вам и вашим друзьям. Надеюсь, что поймете правильно. Вы трое — порядочные люди и достаточно опытные зеки… Так вот, не нужно приближаться ко мне. Никому. Как можно меньше, лучше вовсе не разговаривать — не общаться… Вы трое мне симпатичны. Я разбираюсь в людях. Но я должен вас избегать и прошу содействовать… Прошу сторониться меня…
Он говорил внятно, спокойно. Мы ходили рядом, плечо с плечом, он смотрел под ноги или в сторону, изредка взглядывая в упор.
— Не приближаться… Прошу настоятельно. Дело в том, что я на крючке. Понимаете? На крючке у кума. У опера… Обязался… Не перебивайте. Я не хочу оправдываться. Только объяснить. В жалости не нуждаюсь. Но объяснить должен. В 38-м я попал на Колыму, на золотую каторгу. Там расстреливали. Сотни, тысячи без суда. Решала местная тройка. Иногда только приказ опера. Каждую ночь вызывали по спискам. Уводили в сопки. Ночь за ночью… Кто оставались, долго не засыпали — никто не знал, сколько еще жить. Так недели две… Потом кончилось. Говорили, что и тройку, и начальника самих расстреляли. У нас некоторые сошли с ума… Другие опустели. Понимаете? Опустели: и душа, и мозги пустые. Ни надежды, ни веры. Ничего! Есть пайка. Работа. Обед. Печка. Сон. Опять пайка… И все. Ничего больше. Даже тоски нет. И вспоминать не хотели. Ни о семьях, ни о воле. Жизнь от пайки до пайки. Были такие, кто озверел. Как блатняки. Знаете ведь: «Подохни ты сегодня, а я завтра». Могли убить за кусок хлеба, за щепотку табака… Мало кто — очень мало — остался просто человеком… А потом война и опять расстрелы… Прямо на вахте расстреливали отказчиков. Чаще всего просто больных… Врач справки не дал. У него лимит: превысит — самого пристрелят. Я видел несколько раз: доходяга, еле плетется — сердечник, или почечная колика, или ревматизм, а его тут же перед вахтой на глазах у всех из нагана стрелял начальник конвоя или конвоиру приказывал… Расстреливали и за невыполнение нормы — за саботаж. И по новым лагерным делам. Пораженческая агитация. Восхваление врага… Стукачи старались… На меня дунули, будто сказал, что у немцев хорошие самолеты… И еще стали мотать дело, что в мастерских большой износ инструментов. Вредительство! Я был старшим механиком… Посадили в кандей. Опер вел следствие. Верная вышка. Он и стал покупать. Выбор простой — смерть или подписывай: обязуюсь помогать. Обязался. Что было потом, не хочу вспоминать. Не могу. Старался не губить людей… Хороших людей пытался выручать… Повезло — перевели на другой лагпункт, тоже на производство. Тамошний кум не сразу хватился. И не такой прилипчивый был. Потом я долго болел. Дистрофия, нервное истощение. Опять перевели. Опять кум нашел. «Давай, сигнализируй, а то мышей не ловишь…» Но к концу войны легче стало. Не так дергали, не так грозили. А я все больше нажимал на производство. Вкалывал до упаду. Изобретал. Рационализировал. Я вообще люблю работать. А чтоб от них отпихнуться, старался вдвое, втрое. Стал погонялой, собачником. Работяги меня боялись и ненавидели. А я нарочно. Так и хотел. Пусть больше ненавидят, могу сказать: мне ж никто не доверяет, я за производство болею, никому спуску не даю. Здесь меня еще никто не вызывал. Но ведь могут в любой день. Работа у меня прекрасная — один на один с кульманом, придумывай, считай, черти. И могу только о деле разговаривать — так что все слышат. Но вы и ваши друзья заняты совсем другой работой. Значит, у нас не может быть ничего общего. Вот и все! Нет, пожалуйста, ничего говорить не надо. Прошу вас убедительно. Не надо. Сами понимаете, насколько доверяю, если рассказал. Передайте это вашим друзьям, только им и только один раз.

Эта книга патриарха русской культуры XX века — замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912–1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», — с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии.
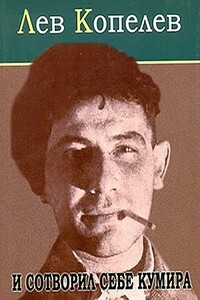
Это первая часть автобиографической трилогии, в которой автор повествует о своем детстве и юности на Украине, в Киеве и Харькове, честно и открыто рассказывает о своих комсомольских заблуждениях и грехах, в частности, об участии в хлебозаготовках в начале 1933 года; о первых литературных опытах, о журналистской работе на радио, в газетах «Харьковский паровозник», «Удар». Получив в 1929 г. клеймо «троцкиста», он чудом избежал ареста во время чисток после смерти Кирова. Несовместимость с советским режимом все равно привела его в лагерь — за месяц до победы над нацизмом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лев Копелев — известный писатель, германист и правозащитник.Статья впервые опубликована в журнале «Наука и жизнь» № 12, 1980 за подписью Булата Окуджавы.
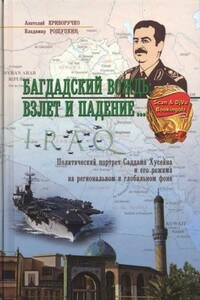
Авторы обратились к личности экс-президента Ирака Саддама Хусейна не случайно. Подобно другому видному деятелю арабского мира — египетскому президенту Гамалю Абдель Насеру, он бросил вызов Соединенным Штатам. Но если Насер — это уже история, хотя и близкая, то Хусейн — неотъемлемая фигура современной политической истории, один из стратегов XX века. Перед читателем Саддам предстанет как человек, стремящийся к власти, находящийся на вершине власти и потерявший её. Вы узнаете о неизвестных и малоизвестных моментах его биографии, о методах руководства, характере, личной жизни.
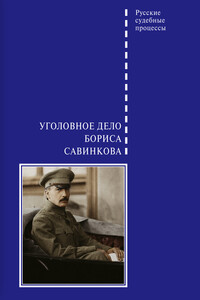
Борис Савинков — российский политический деятель, революционер, террорист, один из руководителей «Боевой организации» партии эсеров. Участник Белого движения, писатель. В результате разработанной ОГПУ уникальной операции «Синдикат-2» был завлечен на территорию СССР и арестован. Настоящее издание содержит материалы уголовного дела по обвинению Б. Савинкова в совершении целого ряда тяжких преступлений против Советской власти. На суде Б. Савинков признал свою вину и поражение в борьбе против существующего строя.

18+. В некоторых эссе цикла — есть обсценная лексика.«Когда я — Андрей Ангелов, — учился в 6 «Б» классе, то к нам в школу пришла Лошадь» (с).

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.
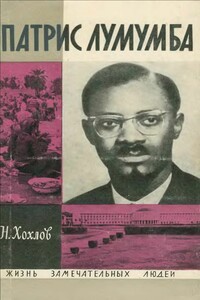
Патрис Лумумба стоял у истоков конголезской независимости. Больше того — он превратился в символ этой неподдельной и неурезанной независимости. Не будем забывать и то обстоятельство, что мир уже привык к выдающимся политикам Запада. Новая же Африка только начала выдвигать незаурядных государственных деятелей. Лумумба в отличие от многих африканских лидеров, получивших воспитание и образование в столицах колониальных держав, жил, учился и сложился как руководитель национально-освободительного движения в родном Конго, вотчине Бельгии, наиболее меркантильной из меркантильных буржуазных стран Запада.

Результаты Франко-прусской войны 1870–1871 года стали триумфальными для Германии и дипломатической победой Отто фон Бисмарка. Но как удалось ему добиться этого? Мориц Буш – автор этих дневников – безотлучно находился при Бисмарке семь месяцев войны в качестве личного секретаря и врача и ежедневно, методично, скрупулезно фиксировал на бумаге все увиденное и услышанное, подробно описывал сражения – и частные разговоры, высказывания самого Бисмарка и его коллег, друзей и врагов. В дневниках, бесценных благодаря множеству биографических подробностей и мелких политических и бытовых реалий, Бисмарк оживает перед читателем не только как государственный деятель и политик, но и как яркая, интересная личность.
