Уроки горы Сен-Виктуар - [3]
Изучение образа земли, которому он отдавался не фанатично, но настолько истово, что постепенно к нему приходило ощущение и собственного образа, эта работа, помогая ему отмежеваться от Великой Бесформенности с ее опасными капризами и настроениями, и в самом деле до сих пор спасала его душу.
А другие? В своей профессиональной деятельности Зоргер еще ни разу не сделал ничего такого, чем бы он мог быть действительно полезен другим, ни какому-нибудь отдельному человеку, ни какой-нибудь группе людей: он не участвовал в разработках нефтяных скважин, ему не доводилось предсказывать землетрясения, никто не привлекал его даже хотя бы в качестве ответственного лица к проверке состояния грунта при строительстве какого-нибудь объекта. И все же он был уверен в непреложности «своего личного факта»: если бы он не старался принимать на себя все то неприятное, что есть в каждом участке земли, если бы он не умел, используя имеющиеся в его распоряжении методы, читать ландшафты и передавать прочитанное уже в систематизированном виде другим, с ним бы никто не смог общаться, никто.
Он вовсе не считал, что его наука – нечто вроде мировой религии; педантичное исполнение профессионального долга («образцово показательной» называл его работу Лауффер, отличавшийся, напротив, неорганизованностью и какой-то милой непоседливостью) превращалось для него в своеобразное упражнение, призванное научить его доверять миру, а размеренность всех его движений как в работе, так и в быту была не чем иным, как попыткой уйти в медитацию, удававшейся, правда, лишь в таких местах, как ванная комната, кухня или мастерская, где он начинал тогда неспешно блуждать. Вера Зоргера была ни на что не направлена; просто благодаря ей он мог, когда это ему удавалось, превращаться в часть «своего предмета» (дырчатого камня, а иногда и башмака на столе, какой-то ниточки на микроскопе), и она же наделяла его, часто такого подавленного, только теперь ощутившего себя настоящим исследователем, чувством юмора, и тогда, погрузившись в состояние тихой вибрации, он принимался просто более пристально рассматривать свой мир.
В такие периоды, когда он беззаветно отдавался чувству приязни (в редкие моменты, когда его посещала надежда, он сам себе казался глупцом), в Зоргере не было ничего божественного, он просто знал, – пусть это знание было мимолетно, но уловимо и закрепляемо на веки вечные в формах, – что такое хорошо и что такое плохо.
У него была потребность в такой вере, которая была бы направлена на что-нибудь, хотя он никогда не мог себе представить никакого Бога; но в те моменты, когда он бывал подавлен, он замечал, что ему искренне хотелось, – быть может, это было не желание, а только навязчивая идея? – он чуть ли не молил о том, чтобы вместе с каждой мыслью его посещала мысль о Боге. (Иногда он даже мечтал о том, чтобы стать по-настоящему верующим, но это ему никогда не удавалось, хотя при этом он был уверен в том, что «боги» его понимают.)
Завидовал ли он безмятежно верующим, всем этим бесчисленным спасшимся душам? Его просто трогало в них полное отсутствие настроений, их способность без особого труда переходить от серьезности к веселости, их неизменная благотворная и такая добрая обращенность вовне; сам он, честно говоря, был недобрым, и это его определенно не устраивало: слишком часто он реагировал на что-то восторженным потоком слов, а уже через секунду не испытывал по этому поводу ничего, кроме глухой досады, хотя в действительности нужно было бы отнестись к этому со снисходительным юмором и раз и навсегда закрыть эту тему.
И все же верующие не могли составить ему компанию. Он понимал их, но не мог говорить с ними на их языке, потому что у него не было языка, а в те редкие минуты, когда он впадал в несвойственную ему религиозность, он все равно бы говорил чужим им языком: «темной ночью их веры», когда язык скован немотой, – он все равно оставался бы им непонятным.
Зато языковые формы его собственной науки нередко казались Зоргеру, при всей их убедительности, каким-то забавным надувательством; ее обряд описания ландшафта, ее согласованная система описательных и назывных форм, ее представления о времени и месте – все это казалось ему весьма сомнительным: и оттого, что на этом языке, возникновение и развитие которого связано с историей человечества, нужно было представить историю совершенно иных движений и структур земного шара, – от этого у него всякий раз неожиданно начинала кружиться голова, и ему требовались невероятные усилия, чтобы представить себе в исследуемом месте – время. Он подозревал, что есть совсем другие схемы описания течения времени в различных формах ландшафта, и уже представлял себе, как он с лукавой усмешкой, которая отличает испокон веку всякого мыслителя, переосмысливающего все заново (он обратил на это внимание, рассматривая их фотографии), подсовывает миру свое очередное надувательство.
Теперь, когда Зоргер в часы досуга мог с воодушевлением отдаться игре ума, ему, уже насмотревшемуся на эту желтую дикую землю, нетрудно было представить себе, каким покинутым почувствовал бы себя тот, кто, не имея веры в силу форм или лишенный по неведению хотя бы возможности поверить в нее, вдруг, как в кошмарном сне, оказался бы один на один с этой местностью: это был бы ужас, страх перед злым духом, неотвратимым концом света, где человек от сплошного одиночества – ведь и за ним ничего бы уже больше не было – готов был бы умереть прямо на месте, но ему не дано было бы это: потому что уже не было бы никакого места – и даже злой дух уже не смог бы забрать его к себе: потому что самое это имя перестало бы существовать – и осталось бы только вечное умирание от ужаса, потому что и время перестало бы существовать. И поверхность воды, и плоское небо над ней вдруг превратились в створки распахнутой раковины, из недр которой страшно соблазнительно, трепеща и содрогаясь от острого нарастающего возбуждения, хлынул поток пропавших от начала времен без вести.

«Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела». Именно это стало для героя знаком того, что пора отправляться в путь на поиски. Он ищет женщину, которую зовет воровкой фруктов. Следом за ней он, а значит, и мы, отправляемся в Вексен. На поезде промчав сквозь Париж, вдоль рек и равнин, по обочинам дорог, встречая случайных и неслучайных людей, познавая новое, мы открываем главного героя с разных сторон. Хандке умеет превратить любое обыденное действие – слово, мысль, наблюдение – в поистине грандиозный эпос.

Одна из самых щемящих повестей лауреата Нобелевской премии о женском самоопределении и борьбе с угрожающей безликостью. В один обычный зимний день тридцатилетняя Марианна, примерная жена, мать и домохозяйка, неожиданно для самой себя решает расстаться с мужем, только что вернувшимся из длительной командировки. При внешнем благополучии их семейная идиллия – унылая иллюзия, их дом – съемная «жилая ячейка» с «жутковато-зловещей» атмосферой, их отношения – неизбывное одиночество вдвоем. И теперь этой «женщине-левше» – наивной, неловкой, неприспособленной – предстоит уйти с «правого» и понятного пути и обрести наконец индивидуальность.

Бывший вратарь Йозеф Блох, бесцельно слоняясь по Вене, знакомится с кассиршей кинотеатра, остается у нее на ночь, а утром душит ее. После этого Джозеф бежит в маленький городок, где его бывшая подружка содержит большую гостиницу. И там, затаившись, через полицейские сводки, публикуемые в газетах, он следит за происходящим, понимая, что его преследователи все ближе и ближе...Это не шедевр, но прекрасная повесть о вратаре, пропустившем гол. Гол, который дал трещину в его жизни.

Петер Хандке предлагает свою ни с чем не сравнимую версию истории величайшего покорителя женских сердец. Перед нами не демонический обольститель, не дуэлянт, не обманщик, а вечный странник. На своем пути Дон Жуан встречает разных женщин, но неизменно одно — именно они хотят его обольстить.Проза Хандке невероятно глубока, изящна, поэтична, пронизана тонким юмором и иронией.

В австрийской литературе новелла не эрзац большой прозы и не проявление беспомощности; она имеет классическую родословную. «Бедный музыкант» Фр. Грильпарцера — родоначальник того повествовательного искусства, которое, не обладая большим дыханием, необходимым для социального романа, в силах раскрыть в индивидуальном «случае» внеиндивидуальное содержание.В этом смысле рассказы, собранные в настоящей книге, могут дать русскому читателю представление о том духовном климате, который преобладал среди писателей Австрии середины XX века.

Петер Хандке – лауреат Нобелевской премии 2019 года, яркий представитель немецкоязычной литературы, талантливый стилист, сценарист многих известных кинофильмов, в числе которых «Небо над Берлином» и «Страх вратаря перед пенальти». «Второй меч» – последнее на данный момент произведение Хандке, написанное сразу после получения писателем Нобелевской премии. Громко и ясно звучит голос Хандке, и в многочисленных метафорах, едва уловимых аллюзиях угадываются отголоски мыслей и настроений автора. Что есть несправедливость и что есть месть? И в чем настоящая важность историй? «Второй меч» – книга, как это часто бывает у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном созерцании окружающего мира.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
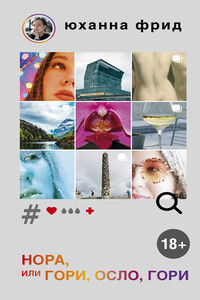
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
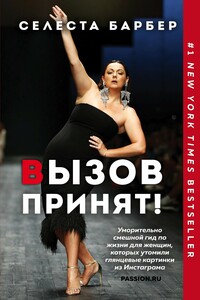
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
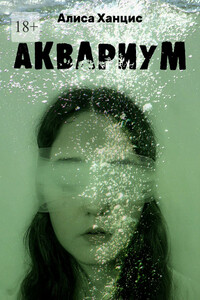
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.

Повествователь, сказочник, мифотворец, сатирик, мастер аллюзий и настоящий галлюциногенный реалист… Всё это — Мо Янь, один из величайших писателей современности, знаменитый китайский романист, который в 2012 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. «Сорок одна хлопушка» на русском языке издаётся впервые и повествует о диковинном китайском городе, в котором все без ума от мяса. Девятнадцатилетний Ля Сяотун рассказывает старому монаху, а заодно и нам, истории из своей жизни и жизней других горожан, и чем дальше, тем глубже заводит нас в дебри и тайны этого фантасмагорического городка, который на самом деле является лишь аллегорическим отражением современного Китая. В городе, где родился и вырос Ло Сяотун, все без ума от мяса.

Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за широкого окна витрины она впитывает в себя окружающий мир – случайных прохожих, проезжающие машины и, конечно, живительное Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно больше – так она сможет стать лучшей Искусственной Подругой своему будущему подростку От того, кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба. Чистый, отчасти наивный взгляд на реальность, лишь слегка отличающуюся от нашей собственной, – вот, что дарит новый роман Кадзуо Исигуро. Каково это – любить? И можно ли быть человеком, если ты не совсем человек? Это история, рассказанная с обескураживающей искренностью, заставит вас по-новому ответить на эти вопросы. Кадзуо Исигуро – лауреат Нобелевской и Букеровской премий; автор, чьи произведения продаются миллионными тиражами.