Урок немецкого - [34]
— А ведь он может заявиться к нам.
— Его уже ищут? — спросила мать.
— Его держали в тюремной больнице, оттуда он и сбежал. Его везде ищут.
— Когда он сбежал? — спросила мать.
— Вчера, — отвечал отец, — вчера вечером и только себе навредил, я справлялся — если бы Клаас высидел, дело обошлось бы тюрьмой или штрафным батальоном, а теперь крышка.
— Почему же, — допытывалась мать, — почему он это сделал?
— Спроси его сама, — сказал отец. — В дверь постучат, и это окажется он, вот ты его и спросишь.
— К нам он не придет, — сказала мать, — после всего, что мы от него натерпелись, он не посмеет сюда явиться.
— Еще как придет, — возразил отец. — Здесь все началось, здесь все и кончится: он попадет им прямо в руки.
— Уж не хочешь ли ты предостеречь его или, чего доброго, спрятать, если он объявится?
— Ума не приложу, — сказал отец, — ума не приложу, что делать. — А она:
— Но ты, надеюсь, понимаешь, чего от тебя ждут?
Она накрыла для него стол, достала хлеб, достала маргарин и коричневую миску с ревеневым повидлом, пододвинула к нему поближе и, казалось, почувствовала облегчение, разделавшись с этой скучной повинностью. Сама же так и не села, налила себе чашку чаю, прислонилась спиной к кухонному шкафу и сказала:
— Я, во всяком случае, больше знать его не хочу. С Клаасом я порешила. И если он здесь объявится, на меня пусть не рассчитывает.
Отец оглядел предложенный завтрак, но так к нему и не притронулся.
— Когда-то ты другое говорила, — напомнил он, — к тому же он ранен.
— Ничего он не ранен, он сам себя изувечил.
— Да, — сказал отец, — да, да, он сам себя изувечил, но для этого тоже что-то требуется, — а мать после короткой паузы:
— Страх для этого требуется, только страх!
— Клаас был у нас самый способный, этот парень добился бы большего, чем я, — возразил отец.
— Мы только о нем и пеклись, — сказала мать, — вечно только о нем. А он? Если он самый способный, так мог бы, кажется, сообразить, к чему это приведет, то, что он над собой сделал. А теперь поздно.
Отец ничего не пил и не ел. Он все поглаживал свои редкие волосы, а то вдруг схватится за левое плечо, должно быть, застарелая боль давала себя знать.
— Клааса покамест здесь нет, да, похоже, ему и не выбраться.
— А если он выберется? — спросила мать.
— Тогда я знаю, к чему меня обязывает мой долг, — сказал отец, но в голосе его прозвучал затаенный упрек. Он повернул к матери небритое лицо, поглядел на нее испытующе и добавил: — Чему быть, того не миновать: на этот счет можешь не беспокоиться, — встал и двинулся к ней с протянутой рукой, но мать уклонилась от его прикосновения, проворно поставила чашку, пятясь, обошла стол, отступила к двери и без единого слова поднялась наверх, где скорее всего заперлась в спальне.
Отец пожал плечами. Он сбросил помочи, подошел к раковине, взял с угловой полки кисточку и мыло и, слегка откинувшись назад и расставив ноги, принялся намыливаться над раковиной, не спуская с меня глаз.
— Ты, конечно, слышал, — обратился он ко мне, — Клаас сбежал и, возможно, здесь объявится. — Я шлепнул себе в кашу повидло и хранил молчание. — Он наверняка здесь объявится, — продолжал отец, — свалится как снег на голову, и подавай ему то и другое, провизию и местечко, где он мог бы схорониться, — так ты ничего такого не делай, не сказавшись мне. Каждый, кто возьмется ему помогать, будет отвечать по закону, и ты, ты тоже будешь отвечать по закону.
— А что с Клаасом сделают, если его поймают? — спросил я.
На что отец, стряхивая с пальца мыло, как стряхивают сопли, только и сказал: — То, что он заслужил. — После чего взял бритву, скривил лицо и стал скрести от ушей вниз, вытянув губы трубочкой, словно собираясь что-то насвистать, в то время как я рассеянно ковырял ложкой кашу, до тех пор ковырял серо-белые хлопья, пока отец не кончил бриться. Ему по-прежнему не хотелось пить и есть. Он вымыл бритвенный прибор, натянул помочи, все это сосредоточенно, не спеша, долго нашаривал давно отлетевшую пуговицу, высморкался, не пожалев времени заглянуть в носовой платок, и даже подошел к окну и долго созерцал Хузумское шоссе, где ровно ничего не происходило и только солнце плавило асфальт.
Когда он наконец после дальнейших оттяжек, как-то: наваксить сапоги, прочистить трубку, завести будильник — вышел из кухни и направился в контору, я выпил налитый ему чай, отнес в кладовку хлеб, маргарин и миску с волокнистым, ударяющим в зелень и легкую красноту ревеневым повидлом, поставил все на место и прислушался. И так как ниоткуда ничто не угрожало, отрезал несколько ломтей хлеба в палец толщиной и отправил за пазуху, а за ними кусок копченой колбасы и два яйца, отчего у меня запузырилась рубашка над поясом. Я понемногу перекатил свои припасы назад, пока не ощутил позвоночником холодные яйца и крошащийся хлеб. Колбасу запихнул в карман. Еще отрезал ломтик белесой солонины и спустил по позвоночнику вниз. Рубашка у меня сзади вздулась, подобно очень низко свисающему рюкзаку, но мне и этого показалось мало. Яблоки, спохватился я, вспомнив гравенштейны в моей комнате на шкафу, и решил несколько штук припрятать за пазуху. Итак, я вышел из кухни и стал подниматься по лестнице, держась поближе к стенке и чувствуя, как на каждом шагу яйца, хлеб и мясо ерзают у меня по спине и холодят ее, благополучно проскользнул наверх и мимо неприятельской спальни, открыл дверь к себе и обмер: на моей кровати с открытыми глазами лежала матушка. Выходит, она удалилась не в спальню, как я полагал, и не стояла там у окна, как я представлял себе, с надменно поджатыми губами, за занавеской, чтобы почерпнуть утешение у дамбы, у горизонта или у сверкающих вод; в моей кровати лежала она, свернувшись, укрытая по грудь, бросив белые в веснушках и гречке руки поверх одеяла. Потом это повторялось так часто, что уже не смущало меня, но в тот день зрелище это пригвоздило меня к месту. Я только таращился на нее. Я даже не задался вопросом, по какому случаю мать — и вдруг в моей постели и так далее, и прочее тому подобное. Волосы ее рассыпались по подушке. Тело, скорее плоское, казалось под одеялом тучным. Уж не задумала ли она выжить меня из моей комнаты? А ну, как она решила насовсем ко мне перебраться? Лежа она вдруг напомнила мне сестрицу Хильке.

Автор социально-психологических романов, писатель-антифашист, впервые обратился к любовной теме. В «Минуте молчания» рассказывается о любви, разлуке, боли, утрате и скорби. История любовных отношений 18-летнего гимназиста и его учительницы английского языка, очарования и трагедии этой любви, рассказана нежно, чисто, без ложного пафоса и сентиментальности.
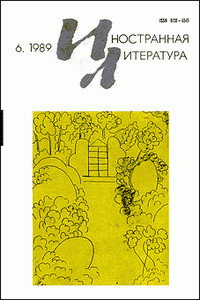
Рассказы опубликованы в журнале "Иностранная литература" № 6, 1989Из рубрики "Авторы этого номера"...Публикуемые рассказы взяты из сборника 3.Ленца «Сербиянка» («Das serbische Madchen», Hamburg, Hoffman und Campe, 1987).
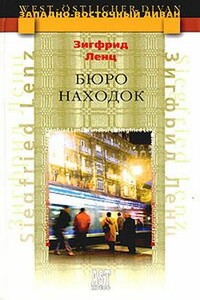
С мягким юмором автор рассказывает историю молодого человека, решившего пройти альтернативную службу в бюро находок, где он встречается с разными людьми, теряющими свои вещи. Кажется, что бюро находок – тихая гавань, где никогда ничего не происходит, но на самом деле и здесь жизнь преподносит свои сюрпризы…

Роман посвящен проблемам современной западногерманской молодежи, которая задумывается о нравственном, духовном содержании бытия, ищет в жизни достойных человека нравственных примеров. Основная мысль автора — не допустить, чтобы людьми овладело равнодушие, ибо каждый человек должен чувствовать себя ответственным за то, что происходит в мире.
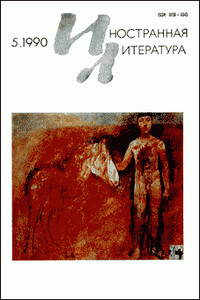
Рассказ опубликован в журнале "Иностранная литература" № 5, 1990Из рубрики "Авторы этого номера"...Рассказ «Вот такой конец войны» издан в ФРГ отдельной книгой в 1984 г. («Ein Kriegsende». Hamburg, Hoffmann und Campe, 1984).
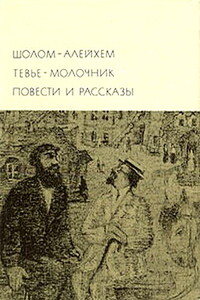
В книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859–1916) вошли повесть "Тевье-молочник" о том, как бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, а также повести и рассказы: "Ножик", "Часы", "Не везет!", "Рябчик", "Город маленьких людей", "Родительские радости", "Заколдованный портной", "Немец", "Скрипка", "Будь я Ротшильд…", "Гимназия", "Горшок" и другие.Вступительная статья В. Финка.Составление, редакция переводов и примечания М. Беленького.Иллюстрации А. Каплана.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.
