Ур халдеев - [7]
И на самом деле, это была благословенная, манящая земля. Она звала, и многие откликнулись на ее зов. Здесь оседали племена; изголодавшиеся по земле руки усердно обрабатывали каждый клочок плодородной почвы, едва он поднимался над водой. С приходом этих земледельцев открылась первая глава многовековой истории Шумера.
Древнейший период известен нам по трем городам, исследованным Урской экспедицией: по Уру, Раджейбе и Эль-Обейду.
В 1919 г. доктор Г.Р. Холл производил в Уре пробные раскопки для Британского музея. В шести километрах севернее Ура он обнаружил и частично раскопал небольшой холм, который арабы называют Тель эль-Обейд. Результаты оказались настолько значительными, что одной из первых задач объединенной экспедиции, организованной три года спустя, стали раскопки именно этого поселения. Наибольшую сенсацию вызвала находка храма первой династии. Однако сейчас нас интересуют совсем другие и гораздо более древние памятники.
Примерно в шестидесяти метрах от развалин храма находилось небольшое возвышение; оно поднималось над окружающей равниной всего на два метра. Поверхность его была усыпана кремневыми орудиями и черепками вылепленной от руки раскрашенной глиняной посуды такого же типа, как в Эриду на юге Ура. Находки были отнесены к «доисторическим», тогда о них больше почти ничего не знали.
С самого начала раскопок на этой возвышенности мы были поражены, как мало потребовалось затратить на них труда; все лежало почти на поверхности! Под пяти — десятисантиметровым (спорное место — в книге «пяти» в конце строки, «десятисантиметровым» на следующей. Но, учитывая контекст и наличие в языке слова «полуметровым», скорее должно быть «пяти — десятисантиметровым») слоем легкой пыли и черепков залегал пласт твердой земли толщиной не более метра, в котором оказалось множество осколков расписной глиняной посуды, кремневые и обсидиановые орудия, остатки тростниковых циновок, обмазанных смесью глины и помета или реже — смесью земли и битума. Ниже начинался уже чистый водоносный слой.
Некогда здесь действительно был островок из речного ила, поднимавшийся над заболоченной равниной. Люди нашли его и построили на нем примитивные хижины из тростника, обмазав их глиной. Позднее деревня была покинута. Черепки и пыль на поверхности — вот все, что от нее осталось. Лишь в одном месте этого пласта мы нашли фундамент стены из кирпича-сырца, относящийся к той же эпохе, что и расположенный неподалеку храм первой династии. Фундамент был заложен в древнейшем нижнем слое, вернее, непосредственно над ним и отделялся от него неизвестным промежутком времени. Из этого мы заключили, что деревня была явно покинута людьми и потом долго оставалась необитаемой. Метровый слой твердой глины и домашних отбросов накопился за время, пока деревня была населена; по мере того как непрочные хижины разрушались, жители строили непосредственно над ними новые. Более легкий верхний слой представлял собой остатки самых поздних построек, разрушенных и развеянных вихрями пустыни, о чем говорят уцелевшие от эрозии многочисленные черепки, разбросанные по поверхности. Разрушению такого рода деревня могла подвергнуться только после того, как ее оставили последние жители.
Несмотря на скудность находок, они многое рассказали нам об этих людях. Первое и самое главное, что мы узнали: здесь жили люди позднего неолита. Во всем Эль-Обейде не удалось найти никаких следов металла. Если медь и была известна, то употреблялась она лишь для изготовления небольших предметов роскоши. Что касается орудий, то все они были каменными. Более крупные инструменты, такие, как мотыги, изготовлялись из кремня или кварца, и то и другое можно найти в верхней части пустыни. Ножи и шила делали из горного хрусталя или вулканического стекла, обсидиана. Эти материалы приводилось доставлять издалека. Бусы были из горного хрусталя, сердолика, розового хрусталя и раковин. Их только обкалывали для придания формы, но не полировали. Однако две-три полированные обсидиановые палочки для носа или ушей, найденные на поверхности и, по-видимому, относящиеся к той же эпохе, свидетельствуют, что искусство тонкой обработки камня было известно мастерам Эль-Обейда.
Но высшего мастерства они достигли все-таки в гончарном ремесле. Их глиняная посуда, вылепленная без помощи гончарного круга, отличается тонкостью стенок и красотой форм. Весьма своеобразны сосуды с черными или коричневыми узорами по белому фону, который от пережога зачастую приобретал странный и, пожалуй, довольно эффектный зеленоватый оттенок. Орнамент на всех сосудах геометрический, из простейших элементов — треугольников, квадратов, волнообразных или зубчатых линий и уголков, которые либо отчетливо выдавлены, либо нанесены штрихами. Они всегда искусно скомбинированы и очень хорошо сочетаются с формой сосудов. Можно с полной уверенностью сказать, что эти образцы глиняной посуды, самые древние из найденных в Нижней Месопотамии, по своему совершенству превосходят все, что здесь производилось вплоть до арабского завоевания.
Глиняная посуда Эль-Обейда свидетельствует о том, что гончарное искусство — не местного происхождения и принесено сюда уже в полном расцвете откуда-то извне. Последние раскопки в Эриду обнаружили более ранние образцы такой же посуды, разница заключается только в степени совершенства, а стиль и характерные особенности здесь те же самые, что и в Эль-Обейде. Очевидно, первые поселенцы речной долины принесли эти формы керамики из своей родной страны. Но откуда? Пока что Сузы единственное место, где обнаружены аналогичные гончарные изделия: это расписная доисторическая посуда Элама. Нельзя сказать, что это одно и то же, однако несомненное сходство, целый ряд характерных признаков позволяют предположить, что гончарные изделия Элама и Нижней Месопотамии имеют как бы общих предков. Если это предположение правильно, то жители Эль-Обейда должны были спуститься в долину с Эламских гор на востоке. Вполне естественно, что высыхающие болотистые низины с их плодородной почвой должны были привлечь соседние племена. Но выгоды земледелия вряд ли могли соблазнить кочевников западной пустыни, а потому первые пришельцы явились в долину либо с севера, либо с востока. Однако между гончарными изделиями Эль-Обейда и северных племен, насколько нам известно, нет ни малейшего сходства: древние гончарные изделия севера не расписные. Поэтому даже частичная аналогия с Эламом является в данном случае решающей.
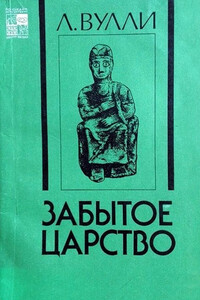
Книга английского археолога Леонарда Вулли, знакомого советским читателям по его ранее изданной книге «Ур халдеев», посвященной открытиям шумерской цивилизации, рассказывает о его работе в Северо-Западной Сирии, где им был раскопан древний город Алалах, важный торговый центр, связывающий цивилизации Месопотамии, Египта, хеттов и Эгейского мира. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.
