Умирание искусства - [9]
«Моя Марина славная баба», — писал Пушкин Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»; есть основание думать, что и о своей Татьяне он отзывался с не меньшим одобрением. О Бальзаке существуют свидетельства, выясняющие, что лиц «Человеческой комедии» он склонен был принимать за живых людей: оплакивал их гибели, радовался их удачам, советовал знакомым позвать к тяжело больному лишь в его собственном творении живущего врача, до того забывался, что однажды, пособолезновав другу, только что потерявшему сестру, неожиданно воскликнул: «Вернемся к действительности!» — и заговорил о своих героях. Сведения такого рода можно собрать о многих других авторах минувшего века, и если это не так легко сделать в отношении писателей других веков, то лишь потому, что гораздо меньше интереса было в те времена к авторскому лицу и к психологической основе его творчества. Живые люди, созданные романистом или драматургом, именно потому и живы, что не вполне от него зависят, не до конца ему подчинены, значит, и ему самому естественно представлять их себе как людей, от него отдельных, которых можно осуждать и ненавидеть, жалеть и любить; так что в этом не должно быть большого различия между Сервантесом и Толстым, Шекспиром и Бальзаком. Что же касается героев «Илиады» или «Песни о Роланде», то воображению странствующего певца, прославлявшего их подвиги, они уже окончательно преподносились реально данными в историческом или мифическом опыте, подлинно живыми существами. Пусть образы их кажутся нам , воспитанным на совсем другом ощущении личности, упрощенными, собирательными, скупыми на индивидуальные оттенки: именно таким представлялся древнему поэту человеческий образ вообще.
Действующее лицо эпоса, драмы или романа не есть простое измышление, изобретение, хитроумная игрушка, изготовленная рукой хорошо обученного мастера. Но столь же неверно было бы утверждать, что литературный герой заимствуется извне, берется напрокат у жизни, — и опять-таки это утверждение (при всех различиях в частностях) одинаково неприменимо к героям Троянской войны и к Болконским или Карамазовым. Франсуа Мориак недаром одновременно заявил в последней своей книге о романе, что герой романиста тем живее, чем он менее ему подчинен, и что лишь самые второстепенные действующие лица могут быть взяты без изменений из действительности. Важнейшее, однако, этим еще не сказано: дело в том, что и самым тщательным, самым равномерным распределением этих элементов — тех, что от автора, и тех, что от жизни, — живого человека создать нельзя. Мориак говорит, что жизнь дает романисту лишь отправную точку, исходя из которой он может взять любое направление, хотя бы и противоположное тому, какое предуказано в жизни; но и этого еще не достаточно. Творчество совсем не состоит в произвольном сцеплении вырванных из жизни клеток или атомов, а сотворение живого человека таким способом и тем более невозможно. Из фактов и здравого смысла жизни не создать — разве лишь сколок, отражение, подобие. Истинный художник ищет не правдоподобия, а правды, подражает не жизни, а силам, рождающим жизнь. Он не списыватель природы; он, как тот же Мориак сказал недавно, — обезьяна самого Творца. И те силы, что в нем, через него, в сотрудничестве со всем его существом творят, это те самые силы, что искони участвуют в творении.
Основные традиции эпоса и драмы в минувшем веке унаследовал роман, и главным требованием, предъявляемым ему, сделалось требование жизненности, т. е. именно создания живых людей, что совсем еще не обязывает принимать идеологию «реализма» или «натурализма» Идеология эта нередко становилась вредной для романа побуждая романиста, ищущего живую правду, довольствоваться похожей на жизнь обстановкой и житейски правдоподобными людьми. Но девятнадцатый век был все же веком великого романа. Герои Стендаля и Бальзака Флобера и Диккенса, Готтфрида Келлера, Гарди и Толстого — целостные создания, живые лица, отделившиеся от автора, хотя и созданные из его плоти и крови, не приклеенные к страницам, на которых он поместил их имена. Жюльен Сорель ни на кого не похож, но он есть — не менее Байрона или Бонапарта. Люди Достоевского неправдоподобны, но они живее живых людей. Характеры у него (как это и вообще свойственно русскому роману) построены не путем списывания с тех случайных сочетаний, которым нас учит жизнь и которыми питаются фотографирующие романисты, но и не путем логических выводов из одной или нескольких основных черт, они построены иррационально — как бы самой жизнью, рождены в глубине подсознания или сверхсознания. Почему Смердяков брезглив? Ответить на это путем логического рассуждения нельзя; но если бы Смердяков не был брезглив, он не до конца был бы Смердяковым.
«Само собой разумеется, что характер героя делается из многих отдельных черточек, взятых от различных людей его социальной группы, его ряда. Необходимо очень хорошо присмотреться к сотне-другой попов, лавочников, рабочих для того, чтобы приблизительно верно написать портрет одного рабочего, попа, лавочника». Так ли уж это само собой разумеется», как думает Горький (см. сборник как мы пишем»), и не характерно ли, что аптекарский рецепт или кулинарное предписание это принадлежит именно ему? Отчасти он, конечно, прав: без наблюдения или даже нарочитого выискивания характерных черт изобразить что бы то ни было довольно трудно, но зато и не все творчество сводится к изображению, да и само изображение никогда не приводит к целому путем склеивания вырезок, сколачивания осколков. Изображению предшествует воображение, а вообразить можно и без того, чтобы «присмотреться»: Шиллер никогда не видел моря, но умел о нем писать; Макбет или Дон Жуан совсем не сделаны из «отдельных черточек». Правда, Горький говорит не о личности, а о типе, да еще «классовом», но ведь русская литература до него как раз тем и были сильна, что изображала прежде всего живых людей, даже пытаясь изобразить «попа», «рабочего» и «лавочника». Вопреки утверждению плохих учебников, русские писатели всегда чуждались той проекции человека в плоскость общества, того приведения к общему знаменателю особей, лишь отчасти схожих между собой, без которого невозможно построение никакого «типа». Даже образы общечеловечески-условные, воплощения вездесущей страсти вроде мольеровского Гарпагона или гоголевского Плюшкина в русской литературе редки, хотя при создании их отнюдь не обязательно применять механически-собирательные приемы. Тем более ей чужд тип в более точном смысле, как некое среднее единство, извлеченное из конкретного множества путем рассудочной операции, подобной фотографированию на одной пластинке многочисленных членов одной семьи. В западном романе и драме давно уже начали появляться герои, напоминающие коллективный снимок, полученный этим (гальтоновским) способом. В русской литературе, наоборот, до самого последнего времени действовали подлинные

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
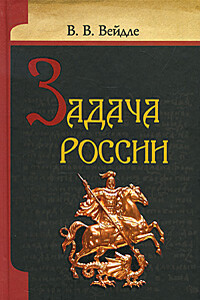
Вейдле Владимир Васильевич (1895-1979) - профессор истории христианского искусства, известный писатель, литературный критик, поэт и публицист. Одной из ведущих тем в книгах и "статьях этого автора является тема религиозной сущности искусства и культуры в целом. В работе "Задача России" рассмотрено место христианской России в истории европейской культуры. В книге "Умирание искусства" исследователь делал вывод о том, что причины упадка художественного творчества заключаются в утере художниками мировоззренческого единства и в отсутствии веры в "чудесное".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
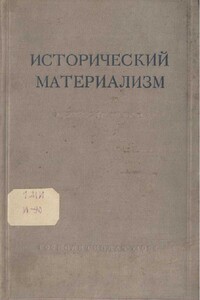
Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.
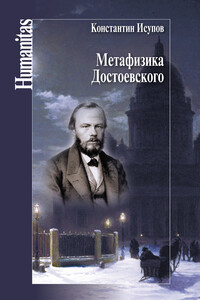
В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».
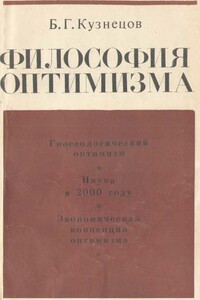
Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.
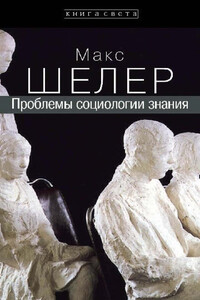
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.