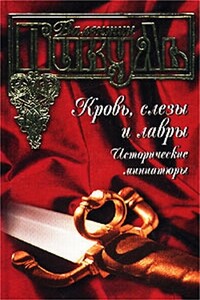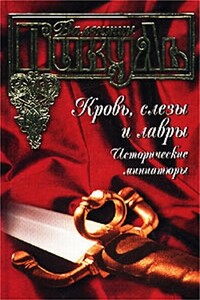Учитель словесности - [4]
— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадаются ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. — Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь.
Гость сказал, что столичные журналы попадаются ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсанофьеву такое заявление — обухом по темени.
— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!
— Не моих, — обронил тот.
— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висюльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать. — Он прочистил горло и начал: — «Климка Хударев и урядник»… «Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала…»
Читая, Варсанофьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшательства прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсанофьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси); если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного Клима в холодную, Варсанофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.
Вернувшись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.
— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. — Вам скучно?
— Я все слышал, Орест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. — Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске».
— Это многие гимназисты умеют, из тех, что спят на уроках, — повторить последнюю фразу учителя.
Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.
— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту.
И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.
— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то…
— А-а!.. Крысы…
— Что-о? — не понял учитель.
— Под полом. Вон там в углу, где кровать.
Учитель прислушался и ничего не услышал.
— Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит.
— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсанофьев, которому представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.
— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.
— Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть такая замазка со стеклом.
— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка. Варсанофьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в «утешительную» и сел к столу.
— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул тот.
— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет! — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка, и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости.
— Может, вернемся ж, чтению? — предложил Варсанофьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.
— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным. Варсанофьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсанофьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе бессчастного Клима естественно, как поток, стремилось к его самоистреблению. Повесился в остроге горемыка. И вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.
— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься.
— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель.
— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или порвется или развяжется.
— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсанофьев. — Неужто, пробовали?
— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.