У - [7]
Мне показалось, моя теория выглядит не хуже других. Я снимаю коньки, надеваю ботинки, прячу коньки в мешок и отправляюсь домой в восторге от своей новой теории. Я читал, что некоторые открытия появлялись случайно. Зачастую, когда человек думал совсем не о том. Как это произошло сейчас со мной: я отправился покататься на коньках на озере Лианванн, памятное мне с детства как место, куда я ходил купаться. Ни о чем таком особенном я не думал. А в результате что? Откуда ни возьмись, мне вдруг в голову стукнула идея, которая, может быть, откроет новые горизонты в науке! Это вовсе не значит, что теория Хейердала чем-то нехороша. Напротив! Ведь моя — просто ее оборотная сторона. Хейердал исходил из своей теории, а я буду исходить из своей. Могли же другие мореплаватели впоследствии, когда лед уже стаял, отправиться в плавание на бальсовых плотах! В этом нет ничего невероятного. Тем более что им было кого проведать за океаном. Устные легенды о путешественниках, отправившихся в путь на коньках, по всей очевидности, многие годы передавались из уст в уста, и в конце концов люди захотели повидать своих предков и узнать, как сложилась их дальнейшая судьба. Так чего же тут странного, если они решили построить плот? Ровным счетом ничего! По-видимому, одно логично следует из другого.
Продолжая свои размышления, я подумал: итак, когда они, надев свои примитивные коньки, отправились, подгоняемые попутным ветром, на запад, их путешествие, неизбежно растянувшееся на несколько месяцев, постоянно сопровождалось монотонными звуками скользящих полозьев (здесь я основываюсь на предположении, что они уже пользовались железом), а значит, учитывая, что они явно были люди неунывающие, не следует ли нам сделать вывод, что эти звуки должны были приобрести в их сознании особенное значение? Вероятно, эти звуки нашли отражение в их песнях, а потомки переселенцев разыгрывали примитивные драматические представления, которые должны были поведать следующим поколениям историю долгого, монотонного пути по ледяному покрову океана. Я совершенно уверен, что звуки, напоминающие звон скользящих коньков, сохраняются в полинезийской музыке до наших дней. Эта черта, несомненно, чрезвычайно характерна для их музыки. Надо поскорей сбегать в библиотеку и там проверить. Я должен отыскать характерную мелодию, возникшую из звука коньков, разрезающих лед!
Но почему же тогда никто не обнаружил остатки этих коньков, спросите вы меня! И почему никем еще не отмечено, что эти характерные мелодии навеяны звоном скользящих коньков? Разумеется, я понимаю, у моей теории появятся противники. А как же! Иначе и быть не может. Но у меня заранее готов ответ. И не один, а несколько. Во-первых, я исхожу из того, что в Полинезии влажный климат. Железо его не выдерживает. Оно проржавело и рассыпалось. Задолго до нашего времени. Во-вторых — что, пожалуй, наиболее вероятно, — отважные пионеры, завидев землю и достигнув лагун и коралловых рифов, которые в те времена были покрыты льдом, поступили самым естественным образом, сбросив коньки и оставив их на льду. Они вышли на берег, построили хижины, отогрелись и колонизовали острова. День за днем незаметно текло время. Пока они устраивались, им хватало забот, так что они даже не вспоминали о брошенных на льду коньках, и коньки так и провалялись на льду многие годы, пока климат не потеплел и лед не растаял. Тогда коньки ушли под воду и опустились на морское дно. Вероятно, они так и лежат там по сей день. Может быть, обросли кораллами. И ракушками. Я мысленно вижу, как они там лежат. Очевидно, их теперь нелегко найти, если не знаешь, что искать. Тут требуется наметанный глаз.
А мелодии никогда не связывали со звуком коньков просто потому, что никто не догадывался, к чему надо прислушиваться. Многих, наверное, поражали какие-то неожиданные звуки в старинных фольклорных мелодиях, но никто не додумывал эту мысль до конца. Очевидно, я первый ее уловил. Я — медиум, улавливающий новые идеи! По счастью, мне свойственно богатое ассоциативное мышление! Надо же, и откуда что берется!
Когда я найду коньки, теория в основном будет доказана.
Тут мама ее развенчала. Но не до конца.
Вернувшись домой, я изложил маме свою теорию. Лицо ее, как я заметил, приняло несколько скептическое выражение. Она сказала, что ей вроде бы не доводилось слышать про оледенение Южного полушария. Но ведь с тех пор, как мама учила в школе географию, минуло довольно-таки много времени, возразил я, и она согласилась со мной, что не очень уверена в своих познаниях. «А вдруг! — говорю я. — Вдруг моя теория имеет под собой твердую почву. Ведь это же было бы величайшим открытием». Мама со мной согласилась. Нельзя во всем полагаться на общепринятые мнения, говорит мама. Тут я понял, что она тревожится за меня — а вдруг я ошибся. Она испугалась за сына, как бы его не подняли на смех! А какая же мать не боится за своего сына!
Несмотря на первую заминку, я чувствую, что стою на правильном пути.
Я сажусь в трамвай, еду в центр и иду в библиотеку.
Энциклопедия! В библиотеке я читаю энциклопедию. Открываю страницу с «Ледниковым периодом». На карте в энциклопедии не отображено Южное полушарие. Я вижу, что льдом была покрыта значительная часть Европы, почти вся Северная Америка и Гренландия. Но перед Тихим океаном карта обрывается. Тихий океан в нее не включили. Может быть, потому что про него не известно наверняка, подумал я? Может быть, эту часть земного шара не включили в карту оледенения оттого, что про нее ничего точно не известно? По опыту я знаю, что в некоторых случаях ученые придерживают информацию. Так, например, они воздерживаются публиковать информацию о тех вещах, о которых они чего-то не знают. Таким образом, они сами предстают перед читателем в более благоприятном свете. Говоря о вещах, которые знаешь, ты отвлекаешь внимание от того, что тебе неизвестно. Я слышал об одном исследователе, которому нужно было сделать доклад об опытах по трансплантации кожи у мышей. В последнюю минуту он понял, что опыт не удался, и с горя покрасил белых мышей черной тушью. Он подтасовал факты. Обман разоблачили и ему не дали искомого звания доктора наук.
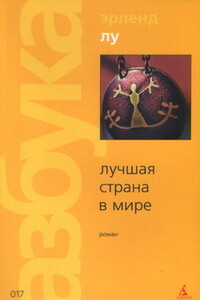
Вашему вниманию предлагается роман хорошо известного и любимого в России норвежского писателя Эрленда Лу «Лучшая страна в мире, или Факты о Финляндии». Его герой — молодой журналист, подвизающийся на вольных хлебах. Получив неожиданный заказ написать увлекательный путеводитель по Финляндии, он не смущается того, что об этой стране ему ничего не известно, — ведь можно найти двадцатилетней давности «National Geographic» и послушать Сибелиуса. Но муки творчества — ничто по сравнению с вторгающимися в его жизнь неожиданностями, таинственной незнакомкой, байдарочным рейдом в логово «скинхедов» и всеочищающим пожаром...«Своим новым романом Лу опять подтверждает, что находится в авнгарде современной прозы» (Ларс Янссен);«После чтения „Лучшей страны в мире“ вы никогда больше не сможете рассматривать рекламно-туристические брошюры с прежним безразличием» (Франц Ауфхиммель);«Это самый достойный, умный, человечный роман, каким только норвежская литература могла встретить новое тысячелетие» (Observer Norske Argus).

Эрленд Лу (р. 1969) – популярный норвежский писатель, сценарист, режиссер театра и кино, лауреат ряда премий. Бестселлер «Наивно. Супер» (1996), переведенный на дюжину языков, сочетает черты мемуарного жанра, комедии, философской притчи, романа воспитания. Молодой рассказчик, сомневающийся в себе и в окружающем мире, переживает драму духовной жизни. Роман захватывает остроумностью, иронической сдержанностью повествовательной манеры.
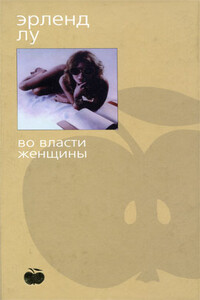
Дебютный роман автора «Лучшей страны в мире» и «Наивно. Супер»; именно в этой книге наиболее отчетливо видно влияние писателя, которого Лу называл своим учителем, — Ричарда Бротигана. Главный герой попадает под власть решительной молодой женщины и повествует — в характерной для героев Лу самоироничной манере — о своих радостях и мытарствах, потерях и приобретениях, внутренней эволюции и попытках остаться собой. Герои «Во власти женщины» ходят в бассейн и занимаются любовью в плавательных очках, поют фольклорные песни и испытывают неодолимое влечение к орланам-белохвостам, колесят по Европе и мучительно ищут себя...
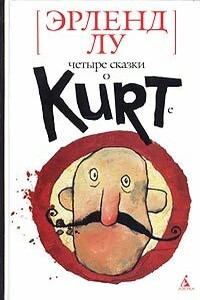
Курт работает на автопогрузчике и выделывает на нем прямо чудеса. Впрочем, он и без автопогрузчика такое иной раз устраивает, что вся Норвегия кричит «Караул!», а семья Курта не знает, куда ей деваться от своего удалого папаши.Но он не злодей — когда пришел решительный час, Курт со своим автопогрузчиком вытащил из моря норвежского короля. Такое не каждому по плечу. А читать о его похождениях — со смеху помрешь!«Курт звереет» — вторая сказка из серии «Сказки о Курте» культового норвежского писателя Эрленда Лу.
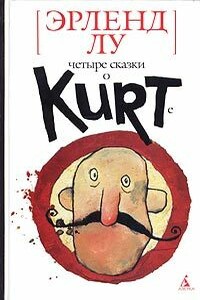
Курт работает на автопогрузчике и выделывает на нем прямо чудеса. Впрочем, он и без автопогрузчика такое иной раз устраивает, что вся Норвегия кричит «Караул!», а семья Курта не знает, куда ей деваться от своего удалого папаши.Но он не злодей — когда пришел решительный час, Курт со своим автопогрузчиком вытащил из моря норвежского короля. Такое не каждому по плечу. А читать о его похождениях — со смеху помрешь!«Курт, quo vadis?» — третья сказка из серии «Сказки о Курте» культового норвежского писателя Эрленда Лу.
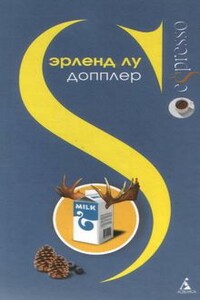
Герой последнего (2004 г.) романа популярного современного норвежского писателя Эрленда Лу «Допплер» уходит жить в лес. Он убивает тесаком лосиху, и в супермаркете выменивает ее мясо на обезжиренное молоко и воспитывает ее лосенка. Он борется с ядовитыми стрелами детской поп-культуры, вытесывает свой собственный тотемный столб и сопротивляется попыткам навещающей дочки обучить его эльфийскому языку...

Михейкина Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.Из «Наш Современник», № 11 2015.
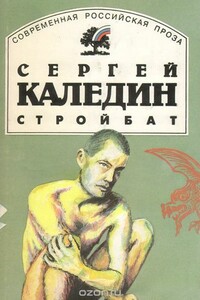
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
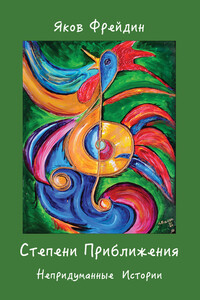
Якову Фрейдину повезло – у него было две жизни. Первую он прожил в СССР, откуда уехал в 1977 году, а свою вторую жизнь он живёт в США, на берегу Тихого Океана в тёплом и красивом городе Сан Диего, что у мексиканской границы.В первой жизни автор занимался многими вещами: выучился на радио-инженера и получил степень кандидата наук, разрабатывал медицинские приборы, снимал кино как режиссёр и кинооператор, играл в театре, баловался в КВН, строил цвето-музыкальные установки и давал на них концерты, снимал кино-репортажи для ТВ.Во второй жизни он работал исследователем в университете, основал несколько компаний, изобрёл много полезных вещей и получил на них 60 патентов, написал две книги по-английски и множество рассказов по-русски.По его учебнику студенты во многих университетах изучают датчики.

В своей книге автор касается широкого круга тем и проблем: он говорит о смысле жизни и нравственных дилеммах, о своей еврейской семье, о детях и родителях, о поэзии и КВН, о третьей и четвертой технологических революциях, о власти и проблеме социального неравенства, о прелести и вреде пищи и о многом другом.
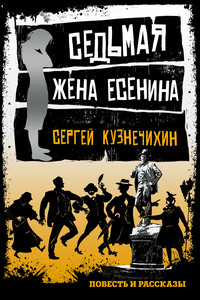
Герои повести «Седьмая жена поэта Есенина» не только поэты Блок, Ахматова, Маяковский, Есенин, но и деятели НКВД вроде Ягоды, Берии и других. Однако рассказывает о них не литературовед, а пациентка психиатрической больницы. Ее не смущает, что поручик Лермонтов попадает в плен к двадцати шести Бакинским комиссарам, для нее важнее показать, что великий поэт никогда не станет писать по заказу властей. Героиня повести уверена, что никакой правитель не может дать поэту больше, чем он получил от Бога. Она может позволить себе свести и поссорить жену Достоевского и подругу Маяковского, но не может солгать в главном: поэты и юродивые смотрят на мир другими глазами и замечают то, чего не хотят видеть «нормальные» люди…Во второй части книги представлен цикл рассказов о поэтах-самоубийцах и поэтах, загубленных обществом.

"Манипулятор" - роман в трех частях и ста главах. Официальный сайт книги: http://manipulatorbook.ru ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18+ ИЛИ ЧТЕНИЕ ПОДОБНОГО КОНТЕНТА ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ ВАМ НЕПРИЕМЛЕМО, НЕ ЧИТАЙТЕ "МАНИПУЛЯТОРА".

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами.
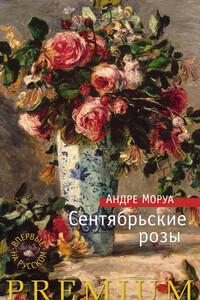
Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа «Письма к незнакомке» и «Превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа – знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда – чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.
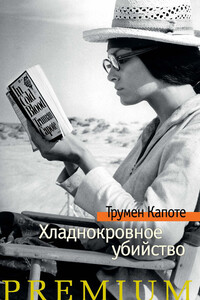
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Завтрак у Тиффани» (повесть, прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), «Голоса травы», «Другие голоса, другие комнаты», «Призраки в солнечном свете» и прочих, входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением Капоте многие считают роман «Хладнокровное убийство», основанный на истории реального преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и психологического феномена.
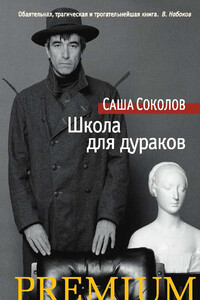
Роман «Школа для дураков» – одно из самых значительных явлений русской литературы конца ХХ века. По определению самого автора, это книга «об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности… который не может примириться с окружающей действительностью» и который, приобщаясь к миру взрослых, открывает присутствие в мире любви и смерти. По-прежнему остаются актуальными слова первого издателя романа Карла Проффера: «Ничего подобного нет ни в современной русской литературе, ни в русской литературе вообще».