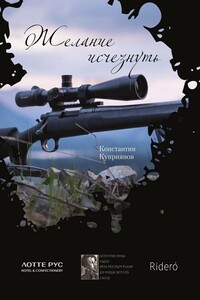Тюрьма - [46]
Весьма оригинально противоречил подход Филиппова устоявшимся в окололитературных кругах мнениям и предпочтениям — он и начинал-то не с существа этих мнений, а с объявления, что сами по себе они совершенно не составляют литературы. Как будто кто-то доказывал обратное! Но дальше нагнеталось что-то вовсе несуразное, возмутительное и неприемлемое для общественности, пусть пребывающей в состоянии некоего распада, но все же не оставляющей попыток достичь компромисса. О Набокове, написавшем разные похвальные книжки, позволяющие относить его, как утверждают некоторые, к представителям «многоязычного воображения» и «интериозированного перевода», Филиппов с откровенным презрением отзывался как о пустомеле. А ведь как раз творчество этого писателя могло бы заметно поспособствовать умиротворению враждующих сторон. Знаменитый роман Пастернака, этого печального, если судить по его внешности, и, к сожалению, некрасивого поэта, наш герой ставил ни во что, а в горячую минуту даже называл гадким, позорящим отечественную романистику. Вот уж что называется пощечина общественному мнению! А вообще-то в минуты гневной и, возможно, несколько легкомысленной критики Филиппов буквально возносился и парил над тесным кружком слушателей, немножко напоминая (или некоторым образом ассоциируясь) учителя из пьесы современного автора Майорги. Не ведаем, что поделывал этот драматург в самую горячую пору филипповских литературных увлечений, а вот нынче превосходно обрисованный им учитель, разгоняя писательско-читательскую тьму, втолковывает своему собеседнику, ученику с последней парты, а по сути всем нам, что у Джойса или Кафки можно, конечно, найти любопытные и даже неплохие странички, но все их сочинения ничего не стоят перед одним — любым, пусть даже наугад взятым — абзацем Достоевского. Если мы, утверждает учитель, стремимся к чему-то серьезному и глубокому, то вопрос должен стоять так: Толстой или Достоевский — кого из них предпочесть, за кем из этих двоих правда? Достоевский — неизменная любовь Филиппова. Филиппов мог бы сыграть, достойно и правильно, в упомянутой пьесе, случись ему совпасть во времени с этим замечательным испанцем Майоргой; ныне, однако, Филиппову не до пьес.
Разумеется, учительствовал и раздавал воображаемые оплеухи он в узком до крайности кругу, все равно что в щели, как мышонок. Излитый им культурный ручеек протекал в унылой и на вид заброшенной местности, журчал негромко, и он рисковал совершенно никак не прославиться. Но попадались тихие, отчасти бредовые интеллигенты, которым будто бы само воспитание не позволяло внимать без томных судорог и обморочности дурным отзывам о несокрушимых кумирах, и после встречи с таким учителем, представшим вдруг перед ними тертым калачом, они выглядели осунувшимися и изголодавшимися по нездешней правде. Не прекращали, с другой стороны, своих наблюдений и служивые, так что определенная репутация у Филиппова сложилась. Учил он в ту далекую уже пору не только Достоевскому и не только им лечил, горячо он славил и кое-кого из отпочковавшихся, горячо, но и избирательно, далеко не всякого, как мы уже видели на примере Набокова. Перечислим… Урванцов, автор романа «Завтра утром», также Яков Горбов, Василий Яновский, Владимир Варшавский… — грех не добавить от себя, что тогда эти люди эмиграции были у нас мало известны, а может быть, и вовсе никто о них не слыхал. Кроме, естественно, специально озабоченных и компетентных; напрашивается также сомнение в том, что многие слыхали в поздние, более счастливые времена освобождения и гласности, но эту тему мы пока затрагивать не будем. Как Филиппов добывал книжки избранных им эмигрантов, это величайшая филипповская тайна, и никак, заметим, не подтасован факт, что его «библиотечка» ставила служивых в тупик.
— Ну, если еще так-таки Пустернак с Мандельштампом, — рассуждали они, не скрывая и от самого Филиппова своих недоумений, смешанных с почти очевидным желанием посмеяться и над героем нашего повествования, и над словесностью, и над собственной службой. — Это понятно, известной специализации группка вражин. Их еще перебежчик Глинка разоблачил в занятной статье, выражающей изумление, как можно эдак простодушно радоваться пустоцветам и ликовать по их поводу. Мол, еще в Москве двадцатых-тридцатых, на заре становления новой культуры быта, поведения и литературных тенденций, потешались над этими чудаками, возомнившими себя поэтами. А теперь и мы, не нэпманы и не напостовцы, не перебежчики и не виршеплеты, а здесь служащие, теперь и мы туда же. Вы, Валерий Петрович, примите к сведению, что у нас тут не Веселые и не Бедные, не Голодные и не Горькие. У нас не ликбез и не выдумки какого-нибудь Мейерхольда. Мы тут крепко, намертво подкованы и по части литературы вполне сущие доки, а в критике своей отнюдь не прямолинейны. Очень мы смеялись над обнаружившейся у одной княгини, Шаховская ее фамилия, слабостью, потому как с очевидной слепотой и ограниченностью ума воспела Набокова… А, киваете? Согласны? Прекрасно! Но княгиня и Пустернака не обошла вниманием. Набоков и Пустернак — вот, дескать, имена гениев, даденных читающему миру в нынешнем столетии. Полагаем, и вам это смешно. Осрамилась старуха перед нами и вами на все сто. Что ж, бывает и на старуху проруха. Но прочие ваши, Валерий Петрович, увлечения… Эти слабые, гнилые интеллигентишки, сбежавшие за кордон от волны народного гнева и не представляющие для нас никакой опасности…

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
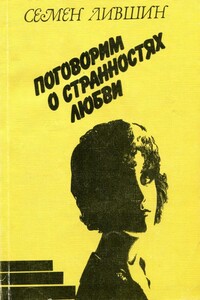
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
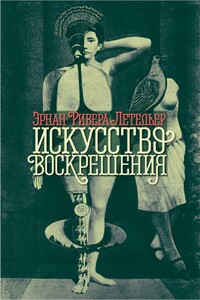
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.