Ты помнишь, брат - [13]
— Можно тебе сказать кое-что?
Он молча затянулся несколько раз сигаретой, наконец ответил:
— Говори что хочешь. Только без общих фраз.
— Сначала ты скажи, что это еще за Аполлон на мою голову?
— Убивающий ящерицу?
— Ну да, этот.
Он взглянул недоверчиво:
— Перестань меня разыгрывать.
— Да нет, я серьезно. Совершенно всерьез спрашиваю. Ну, не хочешь — не надо; пускай я так ничего о нем и не узнаю, ладно. Хорошо, допустим, я с тобой согласен. Только идеология тут, может быть, не совсем подходящее слово. Давай скажем лучше взгляд на мир, на жизнь. И отношение к жизни, намерения, жизненные цели, порождаемые этим взглядом.
— Недурно, недурно…
— Так вот этот взгляд на мир не содержится в сперматозоидах твоего папаши. Он зависит от многого: и от того, что рассказывает тебе в детстве няня, и от того, чем ты владеешь — фабрикой, сохой или всего только собственными руками. Тут играет роль классовая принадлежность и исторический момент, в который ты живешь. Именно поэтому никто другой не может писать так, как писал еврей из пражского гетто, сын алчного недалекого коммерсанта. Или как твой слепой лысый старик, что жил на острове Хиос и кормился сардинами да оливками. Не может быть одинакового взгляда на мир у рабочего из Чикаго, у кули и у гамбургского банкира. И этот взгляд на мир, хочешь не хочешь, идеологичен. Пронизан идеями, какими бы бессвязными, бесцветными или противоречивыми они ни казались. Идеология — чертовски сложная штука, но…
— Вот ты и попался. Ты, значит, не слушал, я приводил не менее сотни примеров.
— Да слышал я! Все до одного слышал. Твои примеры только подтверждают мою правоту. Ведь извержения, о которых ты говорил, именно потому такие, что у художника был правильный для его времени взгляд на мир. Давай возьмем двух перуанцев, Вальехо и Чокано, и сравним. Первый будет жить тысячу лет, а второй… Или вспомни Чаплина, Брехта, Эйнштейна. Могли бы они стать, чем стали, без мировоззрения, высокого, глубокого, гуманистического…
— Начинается догматизм.
— Нет, черт возьми, это не догматизм.
— Чистый догматизм, чтоб я сдох. И оставь меня в покое. Я хочу спать.
— Ты меня целый час терзал своими допотопными теориями.
— Прекрасно! Очень вежливо! — Маркиз захлопал в ладоши. — Конечно, я декадент, оппортунист. Но ты — еще хуже, ибо представляешь собою помесь Плеханова с Фрейдом. Это все равно что мешать мармелад с майонезом.
— С Фрейдом? Что у меня общего с Фрейдом?
— Да, да, с Фрейдом. Именно с Фрейдом. Не спорь. А теперь я хочу спать. Не трогай меня, спать буду. — Он натянул одеяло на голову.
— Если в самом деле хочешь спать, пожалуйста, спи.
— Уже сплю, — ответил он и замолк.
На следующий день, завязывая шнурки на туфлях, Маркиз рассказал мне, как бы между прочим, что Амеба пытался покончить с собой самым что ни на есть вульгарным способом — выпил чуть ли не целый литр карболки. Маркиз же советовал ему прибегнуть к цикуте, подобно Сократу, или воспользоваться змеей, как поступила Клеопатра.
— Черт знает что! Почему?
— Откуда я знаю? У него тревога в душе похлеще, чем у меня. — Маркиз поднял голову, пристально поглядел мне в глаза.
Не знаю сам, почему я отвел взгляд.
— А Ноги-Жерди? — Я сделал вид, будто разыскиваю что-то в шкафу.
— Зря его втянули в это дело. Очень глупо.
— Ах, вот что! Значит, полиция узнала?
— Как не узнать! Весь дом знает!
— Ну и?..
— Три года и один день дали. — Маркиз плюнул.
— Ух ты, сколько! Такой срок, кажется, дают, если у человека находят дома марксистскую литературу.
— Да. — Лицо Маркиза оставалось совершенно невозмутимым. — Вот ведь как несправедливо поступают с этими беднягами!
А через некоторое время, уходя, Маркиз, уже в дверях, крикнул своим скрипучим голосом:
— Когда-нибудь ты, может быть, объяснишь мне, почему в наше время, когда кругом такое творится, ты пишешь сахарные рассказики. И не пишешь другие, в которых бы виден был твой высокий взгляд на ми-и-и-ир и на жи-и-изнь.
Вот какую пакость он мне сказал, и несколько дней подряд я ходил сам не свой, не в силах забыть его слова, которые отравляли мне существование, словно зубная боль.
ГЛАВА IV
Два венка, толстый сеньор в черной шляпе, обшитой по краю поля шелковой тесьмой, небритый, растрепанный мастеровой, несколько старушонок и бледные девочки с костлявыми коленками. Я встретил Лучито на похоронах месье Гийяра, с которым работал во время войны в агентстве Рейтер, мы переводили телеграммы.
— А кто эта сеньора, которая плачет? Неужто он в конце концов нашел себе подругу жизни?
— Чего не знаю, того не знаю. Ты потише.
Поставили гроб в нишу, каменщики принялись класть кирпичи, старушонки заплакали, девочки тоже. Сеньор в черной шляпе поклонился и ушел. Венки прислонили к стене: «От Канадского консульства». На втором от руки одно только имя — «Клариса».
— В агентстве Рейтер… (одна из девочек что-то пискнула слабеньким голоском, я не расслышал) мы с ним каждый переводили до восьми тысяч слов в день. Британские методы эксплуатации, вежливенько. Подожди-ка. Да, сеньора, большое спасибо. Слушай, нас, кажется, с кем-то путают, принимают за родственников, а он так был одинок, бедный старик.

Хоакин Гутьеррес (род. в 1918 г.) — коста-риканский прозаик и поэт. Многие годы жизни провел в Чили, здесь издана его первая книга «Кокори» (1948), получившая премию за произведения детской литературы. Работал зарубежным корреспондентом центрального органа компартии Чили газеты «Сигло»; в годы Народного единства возглавлял издательство «Киманту». Автор социально-разоблачительных и психологических романов «Мангровые заросли» (1947), «Порт Лимон» (1950), «Умрем, Федерико?..» (1973). Центральная тема романа «Ты помнишь, брат» (1978), отмеченного премией латиноамериканского культурного центра «Дом Америк», — формирование молодежи в годы борьбы с диктатурой в Чили 40 — 50-х годов.

Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
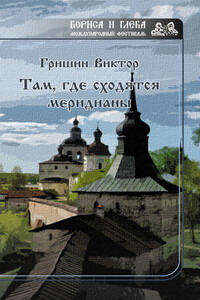
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.