Трудная проблема сознания - [4]
Однако в наши дни очевидно, что предустановленная гармония — не единственная альтернатива подходу Канта. Соответствие «врожденных законов мышления», выражающих то, что мы приписываем объектам сверх их непосредственного опытного состава, и гипотетических законов природы — апостериори подтверждающих наши априорные предположения — можно объяснить на основе эволюционной теории, и такое объяснение будет правдоподобнее других[9].
И тем не менее, ассоциации с кантовской аналитикой, которые могли бы возникнуть у некоторых читателей, конечно, законны. И в этой связи еще несколько уточнений. Во — первых, даже если философия должна заниматься анализом концептуальных привнесений в данности чувственного опыта, философские темы этим, конечно, не исчерпываются. Но именно вопросы о таких привнесениях, как мы увидим, являются фундаментальными, задающими контекст для других философских вопросов — как для служебных и технических, так и для производных и прикладных, а также для мета — вопросов. Во — вторых, философии интересны не все концептуальные привнесения. Некоторые концепты привносятся нами в опыт от случая к случаю, и всегда можно указать их частные эмпирические причины. Философии нечего с ними делать. Другое дело универсальные концептуальные привнесения. Они не зависят от конкретных обстоятельств — не в том смысле, что они повсеместны (хотя некоторые из них могут быть таковыми), а в том смысле, что они являются сущностными компонентами неких типических ситуаций, границы которых, в свою очередь, не произвольны, а очерчены самой природой.
Возьмем, к примеру, такую ситуацию как, восприятие стола, находящегося передо мной. Допустим, у меня возникает мысль, что этот стол неустойчив (что, кстати, — надо же такому случиться — соответствует действительности). Это случайное привнесение, зависящее от наличных качеств стола. Но в этой когнитивной ситуации я могу обнаружить и такие привнесения, которые не связаны с цветом стола, весом стола и т. п., и производятся лишь постольку, поскольку стол — вещь. На это можно возразить, отметив, что качества стола все‑таки имеют значение. В самом деле, допустим, что стол, на который мы смотрим, вдруг поменял бы цвет, потом превратился в орхидею, а затем опять принял форму стола, но уже совсем другого по виду. Едва ли мы применили бы в этом случае понятие вещи: мы сказали бы, что это галлюцинация и т. п. Однако справедливость этого возражения не означает, что в восприятии отсутствуют универсальные (для данной типической ситуации)[10] и априорные компоненты. Ведь функция последних состоит исключительно в том, чтобы доструктурировать имеющиеся в наличии эмпирические данные. Причем структурированность, обнаруживаемая в самих этих данных, рассматривается нами в качестве следствия привнесенного концептуального каркаса. Если же в эмпирических данных отсутствует (или пропадает) такая структурированность, мы просто больше не применяем к ним этот концептуальный каркас. И совершенно необязательно экспериментально устанавливать, какие именно эмпирические данные подходят для того или иного привнесенного нами концептуального каркаса. Ведь это будет понятно из анализа его самого.
Такими‑то априорными каркасами и должна заниматься философия. Следуя традиции, их можно назвать категориальными. Значит, философия имеет дело с категориальным анализом. Поскольку категории не исчерпываются конкретными эмпирическими данными, поиск категорий не может сводиться к сопоставлению таких данных. Скорее, эмпирические данные могут быть примерами, рассматривая которые можно выявлять связанные с ними категориальные формы. Выявление это проводится не путем установления корреляций, как в эмпирических науках, а путем анализа, отделяющего опытные содержания от априорных категориальных структур. Сам же этот анализ может проводиться по — разному. Можно, к примеру, отталкиваться от обыденного словоупотребления, исследовать значения слов и смотреть, покрываются ли эти значения эмпирическими ингредиентами. Обнаружение универсальных избыточных аспектов данных значений эквивалентно отысканию той или иной категории.
Нетрудно, впрочем, обойтись и без развернутой лингвистической части — стартуя от типичных когнитивных ситуаций обыденной жизни. Вообразим, к примеру, следующую ситуацию: вы держите на весу некий предмет, скажем, мяч, и собираетесь отпустить его. При этом вы уверены, что мяч упадет и вновь подскочит. Откуда берется это убеждение? Можно ли дедуцировать его из непосредственных данных чувств? Проанализировав эту ситуацию, вы увидите, что ваша убежденность предполагает определенные априорные допущения.
Сам анализ будет иметь следующий вид: вы перечислите компоненты вашего убеждения, затем рассмотрите вопрос о возможности дедуцировать те компоненты, которые непосредственно не даны, из тех, что даны, докажете невозможность этого и сделаете вывод, что уже в исходной ситуации имеется наложение некоей априорной концептуальной формы или схемы на непосредственные данные опыта. Характер этой схемы выявится по ходу вашего анализа. И сама эта схема задаст границы применения выявленной вами категории, т. е. очертит те самые типичные случаи, для которых она значима.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мы предлагаем вашему вниманию цикл лекций "История новоевропейской философии", читавшегося Вадимом Валерьевичем Васильевым на спецотделении философского факультета МГУ в 1999 — 2000 годах. Все, что делает Вадим Валерьевич на наших глазах — предельно просто. Он, как Акопян, закатав рукава, дает нам пощупать каждый предмет. Наш Автор не допускает никакой двусмысленности, недоговоренности, неясности… Он охотно направляет наши руки, и уже и у нас что-то получается… Но как?! Этот вопрос, спустя несколько лет, заставил нас вернуться к распечаткам его лекций и снова окунуться в эпицентр европейского рационализма, ускользающая магия которого остается неодолимой и загадочной.
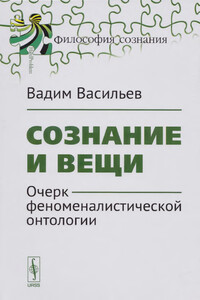
Сознание остается одной из главных загадок для философии и эксприментальной науки. Эта книга — попытка по-новому взглянуть па старый вопрос. Признавая успехи экспериментальных исследований сознания, автор тем не менее проводит свои изыскания и концептуальном ключе, пытаясь прояснить структуру и соотношение наших базовых убеждений о мире и о самих себе.Все мы верим в существование сознания у других людей, в то, что прошлый опыт можно использовать для прогнозов на будущее, в то, что в мире не бывает беспричинных событий и что физические объекты независимы от нашего сознания.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.