Тринадцатая категория рассудка - [38]
– Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «и тогда…» – постойте – и тогда Фабия приблизила к Септу обол, сверкавший меж ее губ. Септ потянулся к нему изжаждавшимся ртом. Сначала слились губы, потом – души. А оброненный обол, скользнув вниз, канул в черные воды межмирья. Ладья отчалила без них. Двое остались меж смерти и жизни, потому что любовь это и есть… понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.
– Я скажу, – глухо отозвался тот, – что вместо придумывания концов лучше передумать заново начало: я бы строил его совсем по-иному…
– Почему?
– Не знаю. Может быть, потому, что я человек… человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.
VII
Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени вдвигалось пустое, молчаливое кресло Papa. Как бы поступил он с оболом мертвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось. Возможность случайности устранялась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой был таков: посетить еще одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Papa и осторожно выведать его настоящее имя, а если можно, и адрес.
Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник: из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жесть подоконника размеренно, по-псаломщичьи, бормотали капли.
Шесть раз переменил мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.
Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шел медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел человека, быстро сбегавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюда, – я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:
– Собрания не будет. Вы знаете о Раре?
– Нет.
– Как же. Дуло меж зубов и… Завтра под лопату.
Я стоял ошеломленный, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:
– Ничего. Придется прервать собрания: на неделю-другую – не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случалось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.
Дверь захлопнулась.
Я хотел позвонить еще раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в черную ночь за окном, – тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.
Я их не ждал: они пришли сами – одна вслед другой – пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщелкнул крышку. Субботы закивали головами, так-так, – губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались вперебой под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота черных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.
Вот уже четвертая ночь на исходе. На исходе и слова. Мое писательство, начавшееся – так нежданно для меня, – еле родившись, и умрет. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда – словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.
Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, – и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьет их.
Ну, вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов – навсегда. Экстазы четырех ночей взяли из меня все: до предела. И все же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне разорвать орбиту и вышагнуть за я!
Вот – отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.
Возвращение Мюнхгаузена
Глава 1
У всякого барона своя фантазия
Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:
– Восстание в Кронштадте!
– Конец большевикам!
Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт! – ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.
Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.
На повороте лестницы:
– Как доложить?
– Скажите барону: поэт Ундинг.
Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:
– Как?
– Эрнст Ундинг.
– Минуту.
Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».
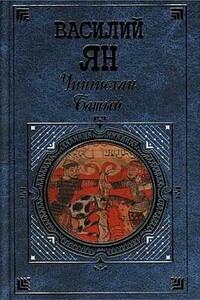
Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.
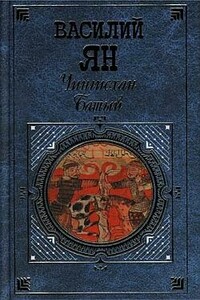
Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.
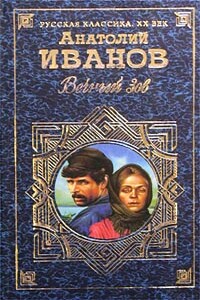
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
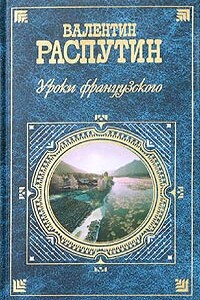
В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».