Тринадцатая категория рассудка - [202]
Створа двери, убившей фантом, продолжала оставаться открытой, как бы приглашая войти. Квантин поднял голову – над дверью чернела четкая надпись:
ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ НОЧНЫХ ВИДЕНИЙ.
Он вшагнул внутрь. Ступени, ведущие извивами спирали вверх, были пусты; откуда-то из-за стен слышался ровный, изредка останавливаемый паузами голос. Очевидно, занятия начались. Ступеньки выводили на хоры. Здесь было пусто и полутемно. Квантин подошел к перилам и заглянул вниз. Высокая чинная кафедра. Над ней – круг неяркого света, напоминающий медленный разряд Круксовых трубок. Под спадом лучей голый, с вспузырившейся шишкой над теменем, затянутый в потную, разблескивающую рефлексы кожу череп. Свесясь с кафедры к нескольким десяткам внимательно наставленных лбов, череп методически раскачивался в такт словам:
– Итак, для нас выяснилось, для них выяснилось: наступает момент, когда царству снов надо перейти в наступление. До сих пор мы принуждены были ютиться меж двух зорь, меж расцепа нейронов, в темных щелях, в какой-то там «трети жизни». Эта треть, уступленная нам их солнцем, достаточно третирующа. Подушкам и головам давно пора обменяться местами. Если до сих пор, в течение стольких тысячелетий, мы позволяли их ртам храпеть на подушках, то теперь мы заставим их захрипеть под притиском подушками. Это, конечно, образ, не более. Но суть в том, что пора кончать. Пора. Миллионы наших ночей накопили достаточный запас снов, чтобы противопоставить их армии фактов, напасть на факты и обратить их в бегство. Боевая задача схематизируется так: загнать явь в «я» и отрезать «я» все «в», так сказать, отстричь солнцу его лучи наголо, предварительно, разумеется, усыпив его, как в свое время было сделано с Самсоном. О, людям и не грезится о том, чем им грозят сны! То, что происходило до сих пор, было лишь глубокой разведкой, схваткой голов с изголовьями. Нам удавалось, ударив тьмой, опрокидывать и пластать противника, но лишь на короткие часы, не более. С каждой зарей мы попадали под миллионы раскрытых зрачков и принуждены были отступать назад, в ночь. Противник наш силен, – незачем скрывать это, – он знает технику творческих бессонниц, зорок, предприимчив и переимчив. Так разве не у нас усвоил он искусство – нападать на лежачего?
Но теперь ситуация резко меняется в нашу пользу. Еще Паскалю удалось точно отграничить мир действительности от мира снов. «Действительность, – утверждал он, – устойчива, сновидения же – шатки и изменчивы; и если б человеку снился всегда один и тот же сон, а пробуждался бы он всякий раз среди новых людей и нового окружения, то действительность показалась бы ему сном, а сон получил бы все признаки действительности». Яснее не скажешь… Но каждому – и им и нам – не менее ясно: действительность с Паскалевых времен много утратила в устойчивости и неизменности, и события последних лет качают ее, как волны палубу; утренние газеты чуть ли не каждый день дают пробуждениям новую действительность, в то время как сны… разве не удалось нам уже и сейчас унифицировать сны, разве не навеяли мы человечеству сладчайший миллионномозгий сон братства, единый сон о единении. Знамена цвета маковых лепестков колышутся над толпами. Действительность защищается. Но выхлынувшее наверх подполье не боится раскала ее солнц. Глаза спящих под щитами век. То, что вчера еще было утопией, сегодня стало наукой. Мы сломаем факты. Мы разобьем наголову всех их status quo [84]: вы увидите убегающие статусквовые спины. Если «я» восстанут против мы: в ямы, в колодцы с кошмарами, мозгом о дно. Мы спрячем солнце под черные пятна, мы погрузим весь мир в бездвижный непробудный сон. Мы усыпим самую идею пробуждения, а если пробуждение будет противиться, мы выколем ему глаза.
Голая макушка говорившего свесилась с кафедры навстречу ближе сдвигающимся лбам:
– В этот час неслышно вступающей ночи, когда уши наших врагов затиснуты подушками, я могу снять печать с одной тайны. Слушайте: когда реальность будет наконец повержена, когда мы увидим ее слепой и бессильной, в путах неразрывных снов, тогда мы, выполняя свой издавна таимый план…
Голос лектора, не теряя четкости, звучал теперь точно из-под притиска сурдины. Квантин, пододвигаясь навстречу близящимся словам, подал туловище вперед, упираясь локтями в перила хор. Притягиваемый словами, он забыл о своем портфеле: высвободившись из-под отодвинутого локтя, набитая бумагами кожа, внезапно выскользнув из-под плеча, описала дугу в воздухе, задела о колпак лампы, ткнулась в выступ кафедры и, перекувырнувшись, с громким шлепом разлеглась на полу. Свет метнулся от стен к стенам. Протянутая рука оратора застыла в воздухе. Все лбы вскинулись кверху:
– Лазутчик. Шпион. Держите.
Квантин понял: каждая доля секунды на счету. Мускулы рванули его тело. Ударяясь пятками о спирально падающие ступени, он слышал бегущие наперерез голоса: «Закрыть все выходы» – «Обыскать хоры» – «Скорей». Квантин, перебросив ногу через поручень, рискуя сорваться в пролет, скользнул по спиралям вниз и, опережая близящийся топот, выпрыгнул на улицу. Не далее сотни шагов был перекресток. Квантин, сломав линию пути, нырнул под какие-то низкие ворота: двор; снова ворота; еще один многоугольник двора: улица. По счастью, проход оказался сквозным. Квантин замедлил шаги; и только дыхание его продолжало бег частыми вспрыгами вдохов. Осторожно разглядываясь по сторонам, он увидел, что город торопливо переодевается из голубого воздуха в черную рабочую одежду ночи. Под фонарными дугами, сгорбившимися над улицей, кружили стеклисто-прозрачные катушки, с них сквозисто-черными нитями сматывалась тьма. Черные нити-лучи постепенно заполняли все пространство, и смутно различимые кружащиеся тела фонарей были похожи на испуганных каракатиц, выделяющих сепию. Это было на руку выскользнувшему из капкана «лазутчику». Слово это, внезапно вброшенное в слух, звучало теперь для Квантина как отщелк ключа, как пароль в явь, больше – как лозунг, осмысляющий все страхи, блуждания и опасности здесь, в паутине улиц города, экспортирующего сны. «Лазутчик», – беззвучно артикулировал он, чувствуя, как слоги смешиваются с улыбкой, первой улыбкой, выглянувшей на поверхность губ здесь, среди тесных стен фабрики кошмаров; девятизвучье пульсировало, припадая к ударам сердца. Да, лазутчик, он выследит все извивы их замыслов, он разорвет, хотя бы ценою гибели, все это черное миллионоузлие, он остановит эти проклятые катушки, сматывающие ночь. «Кто это сказал, кажется, какой-то немецкий гелертер: „О, если бы день знал, как глубока ночь“. И день узнает, промерим по самое дно, не извольте переворачиваться в гробу, герр. Не будь я шпионом дня!»

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

Статья Лескова представляет интерес в нескольких отношениях. Прежде всего, это – одно из первых по времени свидетельств увлечения писателя Прологами как художественным материалом. Вместе с тем в статье этой писатель, также едва ли не впервые, открыто заявляет о полном своем сочувствии Л. Н. Толстому в его этико-философских и религиозных исканиях, о своем согласии с ним, в частности по вопросу о «направлении» его «простонародных рассказов», отнюдь не «вредном», как заявляла реакционная, ортодоксально-православная критика, но основанном на сочинениях, издавна принятых христианской церковью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
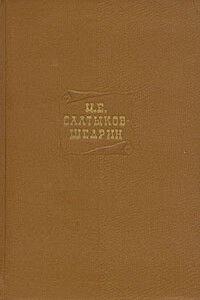
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
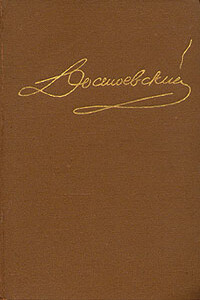
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.
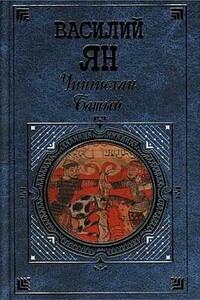
Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.
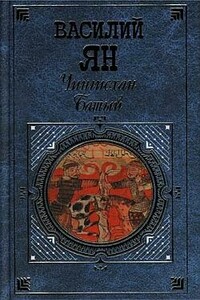
Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.
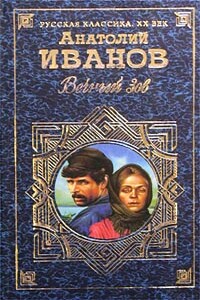
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
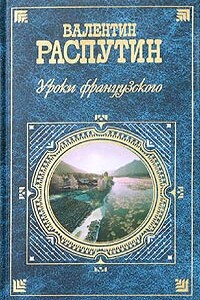
В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».