Три разговора между Гиласом и Филонусом. В опровержение скептиков и атеистов - [8]
Гилас. Что за вопрос! Кто же когда-нибудь думал это?
Филонус. У меня было основание спросить об этом, потому что ты, утверждая, что всякий видимый объект имеет тот цвет, который мы видим в нем, заставляешь видимые объекты быть телесными субстанциями; это предполагает или то, что телесные субстанции суть чувственные качества, или же, что есть нечто кроме чувственных качеств, что воспринимается зрением. Но так как в этом пункте мы уже достигли соглашения и ты не отказываешься от него, то из этого получается ясное следствие, что твоя телесная субстанция не есть что-либо отличное от чувственных качеств.
Гилас. Ты можешь делать сколько тебе угодно нелепых выводов и стараться запутать самые ясные вещи, все-таки ты никогда не убедишь меня вопреки моим чувствам. Я ясно понимаю то, что я имею в виду.
Филонус. Я хочу, чтобы ты и меня заставил понять это. Но так как ты не склонен подвергнуть исследованию свое понятие телесной субстанции, то я не буду больше настаивать на этом пункте. Будь только добр сообщить мне, являются ли внешние тела окрашенными в те самые цвета, которые мы видим, или в какие-нибудь другие.
Гилас. В те же самые.
Филонус. Как! Значит, тот великолепный красный и пурпурный цвет, который мы видим вот на тех облаках, действительно присущ им? Или ты думаешь, что они сами по себе имеют какой-либо иной облик, чем облик темного тумана или пара?
Гилас. Я должен признать, Филонус, что эти цвета облаков не существуют в действительности такими, какими они кажутся на этом расстоянии. Это только кажущиеся цвета.
Филонус. Ты их называешь кажущимися? Как же отличим мы эти кажущиеся цвета от действительных?
Гилас. Очень просто. Кажущимися нужно считать те, которые, появляясь только на расстоянии, исчезают при приближении.
Филонус. А действительными, я полагаю, нужно считать те, которые открываются при самом близком и точном наблюдении.
Гилас. Правильно.
Филонус. Это ближайшее и самое точное рассмотрение делается с помощью микроскопа или невооруженным глазом?
Гилас. Без сомнения, при помощи микроскопа.
Филонус. Но микроскоп часто открывает в объекте цвета, отличные от воспринимаемых невооруженным глазом. И если бы у нас были микроскопы, увеличивающие сверх всякой нормы, то, наверно, ни один объект, рассматриваемый через них, не казался бы того же цвета, какого он кажется невооруженному глазу.
Гилас. Что же ты хочешь из всего этого вывести? Ты ведь не можешь заключить, что в действительности объекты, естественно, не имеют цветов, так как путем искусственных приемов эти последние могут быть изменены или устранены.
Филонус. Я думаю, из твоих собственных признаний можно с очевидностью вывести, что все цвета, которые мы видим невооруженным глазом, являются только кажущимися, подобно цвету облаков, так как они исчезают при более близком и тщательном рассмотрении, которое достигается нами с помощью микроскопа. Что касается того, о чем ты говоришь в виде предупреждения, то я спрошу тебя: каким зрением лучше открывается действительное и естественное состояние объекта: очень острым и проницательным или менее острым?
Гилас. Первым, без сомнения.
Филонус. Не ясно ли из диоптрики, что микроскоп делает зрение более проницательным и представляет объекты так, как они казались бы глазу в том случае, если бы естественно был снабжен самой совершенной остротой?
Гилас. Конечно.
Филонус. Следовательно, микроскопическое изображение нужно считать таким, которое наилучшим образом показывает действительную природу вещи или то, что такое она сама по себе. Цвета поэтому, воспринимаемые с помощью микроскопа, более подлинны и действительны, чем цвета, воспринимаемые иным способом?
Гилас. Признаюсь, в том, что ты говоришь, есть доля правды.
Филонус. Кроме того, не только возможно, но и на самом деле существуют животные, глаза которых природой приспособлены для восприятия таких вещей, которые по причине их ничтожной величины ускользают от нашего зрения. Как ты себе представляешь этих непостижимых маленьких животных, воспринимаемых с. помощью увеличительных стекол? Должны мы допустить, что они совершенно слепы? Или, в случае если они видят, можно себе представить, чтобы их зрение не служило точно так же для предохранения их тел от повреждений, как это обнаруживается у всех других животных? А если так, то не очевидно ли, что они должны видеть частицы, которые меньше их собственных тел и которые представятся им во всяком объекте в виде, весьма отличном от того, который возникает в нашем уме? Да и наши собственные глаза не всегда представляют нам объекты одним и тем же способом. Всякий знает, что во время желтухи все вещи кажутся желтыми. Не является ли поэтому в высокой степени вероятным, что те животные, глаза которых, как мы замечаем, устроены весьма отлично от наших и тела которых полны иных соков, в любом объекте не видят тех цветов, которые видим мы? Не следует ли из всего этого, что все цвета являются одинаково кажущимися и что ни один цвет, который мы воспринимаем, в действительности не присущ никакому внешнему объекту?
Гилас. По-видимому.
Филонус. В этом пункте не будет никакого сомнения, если ты примешь в соображение тот факт, что, если бы цвета были действительными свойствами или состояниями, присущими внешним телам, они не менялись бы без какой-либо перемены, совершающейся в самих телах; но не очевидно ли из всего сказанного, что при употреблении микроскопа, при изменении, совершающемся в глазной жидкости, или при перемене расстояния, без какого-либо действительного изменения в самой вещи, цвета объекта или меняются, или вовсе исчезают? Больше того, пусть все прочие обстоятельства остаются теми же, измени только положение некоторых объектов – и они предстанут глазу в различных цветах. То же самое происходит, когда мы рассматриваем объект при разной силе света. И разве не общеизвестно, что одни и те же тела кажутся различно окрашенными при свете свечи по сравнению с тем, какими они кажутся при свете дня? Добавь к этому опыт с призмой, которая, разделяя разнородные лучи света, меняет цвет объекта и заставляет самый белый цвет казаться невооруженному глазу темно-синим или красным. И теперь скажи мне, держишься ли ты все еще мнения, что всякому телу присущ его истинный, действительный цвет; а если ты это думаешь, то я хотел бы дальше узнать от тебя, какое определенное расстояние и положение объекта, какое особое строение и какая организация глаза, какая степень или какой род света необходимы для установления этого истинного цвета и для отличия его от кажущихся.

Трактат написан и опубликован Беркли в 1721 г. на латинском языке в качестве конкурсной работы для Парижской академии наук."В действительности мы не воспринимаем с помощью чувств ничего, кроме действий или чувственных качеств и телесных вещей ― всецело пассивных, будь они в движении или покое; разум и опыт подсказывают нам, что нет ничего активного, кроме ума, или души. Все, что воображают сверх этого, следует отнести к гипотезам и математическим абстракциям, это должно быть основательно усвоено." ― Джордж Беркли.

Главное теоретическое сочинение Джорджа Беркли (1685-1753). Было впервые опубликовано в мае 1710 г. в Дублине. Книга не вызвала большого интереса у читателей, а отдельные отклики носили сдержанно негативный характер. О философии автора заговорили только после публикации «Алсифрона…» (1732), и Беркли тогда решил переиздать «Трактат…», что он и осуществил в Лондоне в 1734 г. Еще одно переиздание «Трактата…» состоялось в 1776 г., после чего он публикуется во всех собраниях сочинений Беркли, начиная с 1784 г.Массовому советскому читателю книга Беркли известна, в основном, по её критике В.И.

Рене Декарт — выдающийся математик, физик и физиолог. До сих пор мы используем созданную им математическую символику, а его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи Нового времени о бесконечном пространстве. Но прежде всего Декарт — философ, предложивший метод радикального сомнения для решения вопроса о познании мира. В «Правилах для руководства ума» он пытается доказать, что результатом любого научного занятия является особое направление ума, и указывает способ достижения истинного знания.
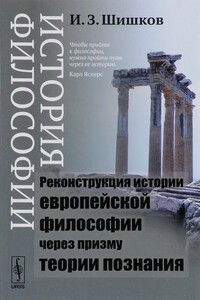
В настоящем учебном пособии осуществлена реконструкция истории философии от Античности до наших дней. При этом автор попытался связать в единую цепочку многочисленные звенья историко-философского процесса и представить историческое развитие философии как сочетание прерывности и непрерывности, новаций и традиций. В работе показано, что такого рода преемственность имеет место не только в историческом наследовании философских идей и принципов, но и в проблемном поле философствования. Такой сквозной проблемой всего историко-философского процесса был и остается вопрос: что значит быть, точнее, как возможно мыслить то, что есть.
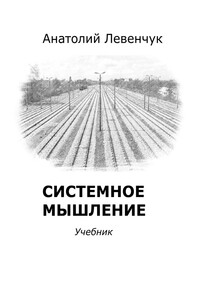
Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного учебника для ВУЗов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем, сколько на современных международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.