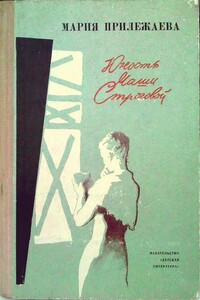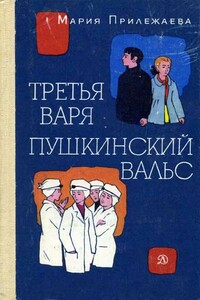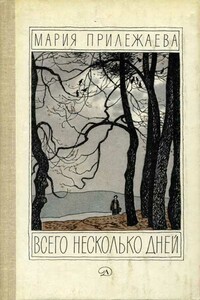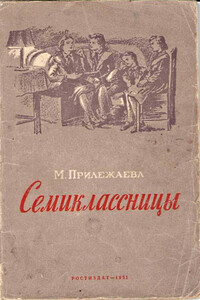Варя лежала уже в постели, на своем жестком тюфячке, под байковым одеялом, и почему-то дрожала, ее трясло, как в малярии, она чувствовала: что-то ужасное и непоправимое случилось в ее жизни, но не плакала. С сухими глазами она думала, что завтра снова изобьет девчонку с бантом, исцарапает в кровь.
— Безотцовщина! От кого попало детей нарожают, чего от таких ждать! — услышала Варя из соседней комнаты.
— Подите вон! — услыхала она тихий, страшный голос деда и вытянулась под байковым одеялом, холодная, как ледяная сосулька, ожидая чего-то.
Спустя некоторое время вошел дед.
— Спишь?
— Не сплю.
— У тебя была хорошая мать, очень хорошая, лучше твоей мамы не бывает на свете, запомни.
— А отец?
Из соседней комнаты в открытую дверь шел свет. Варя видела, дед расстегнул воротник гимнастерки.
— Мама ушла от твоего отца… Мама в нем обманулась. Но тебя это не касается, ты поняла?
Варе было семь с половиной лет. С тех пор она ни разу не спросила деда об отце, но время от времени кое-что он сам ей открывал.
Вечерами дед работал. Он любил работать у себя в маленьком кабинете, тесно заставленном книгами, когда знал, что Варя спокойно спит за стеной. Дед не знал, что иногда Варя не спит. Уткнувшись в подушку, она задыхалась от слез, потому что иногда на нее находила тоска и жалость к маме, бедной пионервожатой Варе, которая прибежала однажды с ребенком на руках из своего нового дома, от мужа, в их небольшую квартирку у Покровских ворот. Это было как гром посреди ясного неба. Ведь дед и не подозревал, как плохо жилось его добери, пионервожатой Варе, как она обманулась! Вскоре после этого у нее вспыхнул давний, дремавший до поры до времени туберкулез. Василь Хадживасилев пришел, может быть, через неделю после похорон, и дед совсем не за того его принял. Дед тогда был убит горем…
А вот теперь все раскрылось. Пусть бы уж лучше не раскрывалось, что Записки были у порога, почти что в руках.
— Дед, не расстраивайся, — сказала просительно Варя.
Он отвернулся к окну. Занеся руки на поясницу, он стоял, и Варя видела его пальцы, переплетенные так сильно, что отлила кровь.
— Что я вспомнил… один вопрос пришел в голову, да… вот что! — суетливо заговорил агроном, беря с Симиного колена шляпу и обмахиваясь от духоты. — Едем утром в Малыше, а Арсений Сергеевич… Арсений Сергеевич без всяких намеков раз взглянул и угадал.
— Правда! — воскликнула Варя. — Правда! Прав…
У нее оборвался голос. Она не могла больше видеть переплетенные пальцы деда.
— Чего? Чего? Чего угадал? — закричали ребята.
— Что я ленинградец, вот чего! Раз взглянул — угадал. Талант разведчика, а?
— Куртка выдала, — сказала Сима. — И образованность. Общий вид.
— Дед! — позвала Варя.
Он обернулся.
— Куртка выдала, — скупо повторил он.
Агроном одернул эффектную, с «молниями» и накладными карманами куртку, поставил шляпу на голову, как цилиндр Чарли Чаплина, и сам же первый захохотал над своим остроумием.
Кот, нервно вздыбив шерсть, шмыгнул с лавки под печку от его громового хохота. Ребята принялись толкать друг друга. Ребята соскучились, их активные натуры жаждали действия.
Скоро от них потребовались действия. Они неслись по селу, огородам, избам, по всем колхозным заведениям, заделавшись по приказу Авдотьи Петровны глашатаями.
— Вы не рассыльные, вы глашатаи, — сказала Авдотья Петровна. — Глашатаи, — внушала она, стукая пальцем по лбу кого попадется. — Скачите, разглашайте народу: в девять, как солнце зайдет, сзываем привольновских колхозников в клуб на рассказ нашей Клавдии Климановой, по-болгарски Хадживасилевой…
Сима онемела. Теперь она была нема не от скованности. Она вообразила сегодняшний вечер, набитое людьми помещение, Клавдию на сцене, а народ валит и валит со всего села! Таких волнующих мероприятий привольновский клуб еще не видывал!
— Цветов на вечер запаси, — велела докторша. — А больше ничего не готовь. Вступительную речь не вздумай подготавливать, смилуйся. А тебе, агроном, наверно, в поле пора.
Она выпроводила обоих за дверь. Лазоревый «газик» победно гуднул за окном и помчал Симу-Серафиму в клуб, Рому-агронома — в шестую бригаду.
— Уф! — сказала докторша. — Уф и денек!
— Стоило прискакать из Москвы, — ответил дед.
— Как же не стоило! — воскликнула Клавдия. — Увиделись, узнали. Жили — не знали, не зная и прожили бы и не встретились бы, не случись случая… — Она всхлипнула.
— Слезлива ты, партизанка! — удивилась докторша.
Дед прошелся по комнате, рассеянный и погруженный в мысли.
— Варвара, завтра утром в Москву, — сказал дед.
— Завтра? Людмил, вместе? Ура! Завтра, вместе. Ты рад?
Он покачал головой. Варя набрала в рот воздуха и… задохнулась. Что он? Что он? Пусть бы он скрыл, пусть бы хоть не при всех!
— Людмил! Ты не рад?
— Рад.
— Ты говоришь «нет».
— Я говорю «да».
— Как же «да», когда «нет». Где же «да»? Головой качаешь, что нет.
Людмил, не понимая, оглянулся на мать. Она залилась смехом. Она так же легко смеялась, как плакала.
— Варя! Милка моя! — счастливо заливалась она. — Это и есть по-болгарски «да», что головой покачал. Покачал — значит, согласен. Я, бывало, тоже запутаюсь… А он рад, как же не рад?
— Идем в сад, Варя! — позвал Людмил, чуть смущенный.