Тренинги свободы - [45]
Обо всех этих вещах я, вероятно, мог бы говорить и в более прямой форме; тогда мне пришлось бы рассуждать не о каком-то там приливе-отливе, не о человеческом характере и о языке, не о Хелен с Анри-Пьером, а о политической Германии — или той, или другой, или уж прямо о воссоединенной. Если читатель позволит мне некоторую дерзость, то я скажу так: не говорил я об этом потому, что мне не хотелось быть в такой степени немцем. Так что я остаюсь на том, что есть только Пьер, только Хелен и, разве что, этот большой зоопарк страны Господа Бога.
Конечно, в соответствии со своим историческим опытом я привязан к различным (с тем или иным знаком) коллективизмам, в соответствии со своими желаниями, со своим мышлением — к различным (с той или иной тональностью) индивидуализмам. Будь у меня возможность выбора, я бы выбрал скорее индивидуализм Анри-Пьера Роше; но возможности выбора у меня нет, ибо на меня как на венгра немецкая культура обладает большим влиянием, чем французская, так что свой индивидуализм мне приходится признать в индивидуализме Хелен Хессель. Ведь в том грандиозном внутреннем споре, который все мы в этой культуре ведем с самими собой, с позиций здравого смысла измеряя шансы возможных коллективизмов и индивидуализмов, не меньшей остротой обладает спорный вопрос: на что должно опираться общество индивидуализма — на принцип верховенства народа или на принцип верховенства нации?
В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, в те памятные осенние вечера, когда люди вышли на улицы Лейпцига, они кричали: «Народ — это мы!» У меня дух захватывало от радостного изумления. Ведь это означало: мы — те свободные люди, которые хотят совместно решать свою судьбу. Мы спасены, сказал я про себя. Затем, несколько дней спустя, настроения изменились, и люди теперь кричали: «Мы — единый народ!» Это все еще означало что-то подобное. На какой бы стороне границы мы ни жили, мы все — свободные люди, которые хотят совместно решать свою судьбу. Но спустя еще несколько дней люди кричали: «Мы — немцы!», — а это уже совсем не значит, что мы — свободные люди. Обе Германии объединились под знаком не первого, не второго принципа, не в духе принципа верховенства народа, а в духе третьего лозунга, в сознании традиции верховенства нации. Ничего мы не спасены, сказал я про себя; наоборот: мы сидим в самой большой культурной луже, какую только можно представить.
Эта новая Германия не может быть национальным государством, так как ее правовая система строится на принципе верховенства народа, а пока эта правовая система действует, национальный принцип в любом случае трудно будет противопоставить принципу демократии. Но в то же время в этой Германии существует не одна, но уже две идентичности; если одна из них соответствует ее общей правовой системе, то другая — нет. Одну эту идентичность определяет опыт преемственности двух (с разными знаками) коллективизмов, вторую — опыт индивидуализма, пришедшего на смену коллективизму. Коллективная идентичность «осси» гораздо больше походит на венгерскую коллективную идентичность, чем на коллективную идентичность того «весси», чья коллективная идентичность скорее похожа на коллективную идентичность французов. Они говорят по-немецки, и все же — на разных языках. Легче всего было бы общества, организованные на принципе индивидуализма, отождествить с Добром, а общества, организованные на принципе коллективизма, — со Злом: тогда у нас сейчас была бы такая Германия, в которой зло должно было бы превратиться в добро. Это наверняка не было бы таким трудным делом: ведь еще Аристотель сказал, что каждый отдельный человек стремится к добру. Беда лишь в том, что люди, большую часть жизни прожившие кто здесь, кто там, не склонны отождествлять себя с теми режимами, в которых они жили или живут. Мы живем в обстановке ужасающих потрясений — и, возможно, еще более ужасные потрясения ждут нас впереди. Если есть Германия и есть немцы, то сейчас немцы, на своем языке и друг с другом, должны обсудить такие проблемы, которые европейские нации до сих пор стремились решить скорее на поле боя. Предположу, что они поймут других и на других языках в такой же мере, как понимают друг друга на своем языке.
В завершение надо же сказать и что-то хорошее. Я — человек маниакальный. Ребята, Пьер любит Хелен! Люди, Хелен любит Пьера. Ничего лучше я не могу написать на стене. Ничего громче я не могу выкрикнуть.
(1992)
Три угла треугольника
Недавно в Австрии состоялась конференция на тему «Австрия и Германия в Европе»; ее устроители пригласили меня поучаствовать в ней — в роли некоего «стороннего наблюдателя», с мнением которого участникам небесполезно будет сопоставить свои взгляды. Вспомним, однако, что говорил Музиль: «единственное доказательство существования Австрии — это Венгрия»; если это действительно так, то мое наблюдательство — не только обоснованно, но и никак не может быть названо сторонним. Высказывание Музиля справедливо и в том случае, если подойти к нему с другой стороны. Придет ли в голову немцу сопоставлять свои взгляды со взглядами венгра? Никогда. А придет ли в голову венгру сопоставлять свое мнение именно с мнением австрийца? Да ни в коем случае! Никогда и ни с чьим.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Петер Надаш (р. 1942) — венгерский автор, весьма известный в мире. «Конец семейного романа», как и многие другие произведения этого мастера слова, переведены на несколько европейских языков. Он поражает языковым богатством и неповторимостью стиля, смелым переплетением временных пластов — через историю одного рода вся история человечества умещается в короткую жизнь мальчика, одной из невинных жертв трагедии, постигшей Венгрию уже после Второй мировой войны. Тонкий психологизм и бескомпромиссная откровенность ставят автора в один ряд с Томасом Манном и делают Надаша писателем мировой величины.

Предлагаемый текст — о самой великой тайне: откуда я пришел и куда иду? Эссе венгерского писателя скрупулёзно передает личный опыт «ухода» за пределы жизни, в зыбкое, недостоверное пространство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
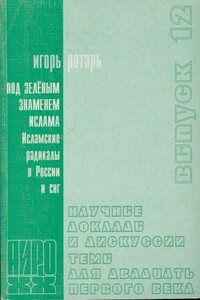
В данной работе рассматривается проблема роли ислама в зонах конфликтов (так называемых «горячих точках») тех регионов СНГ, где компактно проживают мусульмане. Подобную тему нельзя не считать актуальной, так как на территории СНГ большинство региональных войн произошло, именно, в мусульманских районах. Делается попытка осмысления ситуации в зонах конфликтов на территории СНГ (в том числе и потенциальных), где ислам являлся важной составляющей идеологии одной из противоборствующих сторон.
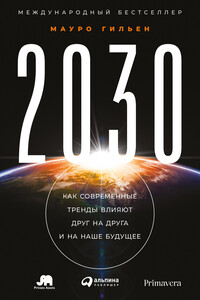
Меньше чем через десять лет наша планета изменится до не узнаваемости. Пенсионеры, накопившие солидный капитал, и средний класс из Индии и Китая будут определять развитие мирового потребительского рынка, в Африке произойдет промышленная революция, в списках богатейших людей женщины обойдут мужчин, на заводах роботов будет больше, чем рабочих, а главными проблемами человечества станут изменение климата и доступ к чистой воде. Профессор Школы бизнеса Уортона Мауро Гильен, признанный эксперт в области тенденций мирового рынка, считает, что единственный способ понять глобальные преобразования – это мыслить нестандартно.

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции.
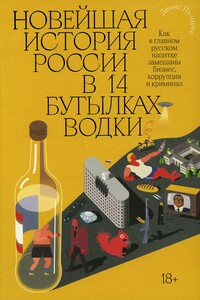
Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?
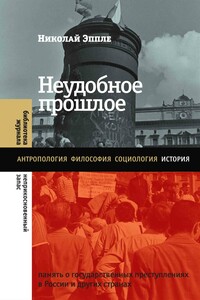
Память о преступлениях, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, вовсе не случайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, — невероятно трудно и психологически, и политически, и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров такого добровольного переосмысления много, а Россия — единственная в своем роде страна, которая никак не может справиться со своим прошлым.