Translit - [21]
Хорошо бы только… помнить его более смутно: пусть немножко сотрутся в памяти и борода, строго трехдневно-небритая, и круглые очки, и даже шарфик с полоской. Стерлись бы чуть-чуть – и не щемило бы так… так, как щемит. Но надо ждать, ждать, ждать – и дождаться, пока перестанет щемить, а вот тогда уже можно и еще раз встретиться, дня на четыре опять. Только это когда-а-а еще… пока щемит почти так же, как в первый день после его отъезда. Значит, о новой встрече лучше и думать забыть.
За четыре года она дважды бывала в Копенгагене на гастролях и, приезжая туда, знала, что достаточно просто пальцем пошевельнуть – и они вместе. Но пальцем не шевелила: рано, рано. Слишком все живо еще, сильно еще. Нельзя так много значить друг для друга: это зависимость. А зависимость делает человека слабым и нежизнеспособным. Какое все-таки счастье, что у него есть Кит!
Манон боготворила женщин-спутниц. Женщин, готовых променять – и променивающих – любовь на совместную жизнь: на варить-жарить, на стирать-белье, на растить-детей… героические женщины! Ей самой постоянное пребывание рядом с тем, кого она любит, было бы ежедневной пыткой: для такой дозировки не было в ней психических ресурсов. Ее просто разорвало бы изнутри: была Манон – и нет Манон.
У тебя, что ж, даже рефлекса материнского нет – он ведь у всех женщин бывает, спрашивал ее кто-то… вроде, Финн (если его Финн звали), и она отвечала: нет.
А вот он – не удивлялся, даже наоборот: выяснилось, что и сам он никогда не хотел иметь детей – чтобы как-нибудь ненароком не обидеть, не накричать, не дернуть за ухо, не нашлепать по заднице, не наказать, без сладкого не оставить… пусть лучше не будет детей. Хотя… что это она про детей: ни для нее, ни, видимо, для него тема детей уж никак не актуальна, да и не о детях речь идет, но о зависимости и свободе.
Манон заварила себе три пакетика зеленого чаю и, глядя в гостиничное окно на Гамла Стан, засмеялась – «как дурочка», оценила она. Сказала в сторону Дании: спасибо-Вам-Кит – и вздрогнула: шляпа-боб, плащ, рюкзачок – в наборе – обозначились на противоположной стороне улицы… вылитые – он. Ей даже захотелось дождаться, когда «набор», прикурив на ветру от трепетавшей, как лань, зажигалки, поднимет глаза и в самом деле окажется – им. Тогда она распахнет окно и выбросится вниз: прямо на мостовую, к нему – и… хорошенькое будет зрелище. В жанре видишь-как-я-тебя-любила.
Здорово, что он не беспокоит ее, не приезжает искать в Берлин, не пробует узнать у… с кем же он был-το, ну да, с Хельмутом, – у Хельмута номер ее телефона, не ошарашивает своим появлением за столиком в «Парадисе». Здорово, но – странно: любой другой русский давно бы обрушил на нее всю свою необъятную загадочную душу – и под ней похоронил бы Манон навеки. Или – она не знает русских. Или – он не русский. Да и какая, в общем, разница… тем более что она и сама вне национальности. И уж определенно – вне немецкой: это ей говорит почти каждый – и слава Богу, между прочим. Ибо Манон не любит в себе… как бы ее назвать-то – немецкость. Даже столько немножко немецкости, сколько в ней есть, и то не любит. А почему – да потому.
Манон выросла в местности к югу от Филлаха – местности, всему сразу пограничной и всем одновременно принадлежащей, где никакой расовой чистоты и в помине нет: австрийскость почти кончается, а итальянскость или словенскость только начинаются – каждая в свою сторону. Так что всякий там сам решает, кем еще или кем уже себя считать.
Манон сочла себя итальянкой.
В пять лет.
Раз и навсегда.
Так и сказала маме: «Я итальянка». Причем по-итальянски сказала. А мама по-итальянски же ответила: «И что теперь делать?» Что делать, Манон не знала, но на всякий случай совсем перестала говорить по-немецки… австрийски, то есть. Мама разволновалась, а отец просто смеялся и говорил с Манон по-итальянски, ему безразлично, на каком говорить. Я, предупреждал, устроен совсем просто: раз движок переставь – австрийская программа, два раза переставь – словенская, три раза – итальянская! Так и было, между прочим, и Манон знала, где этот движок: там, где верхняя пуговица пиджака, за нее крутить надо (если достанешь, конечно), чтобы папа Хайнрих превратился в папу Энрико и начал рассказывать про дедушку Лео, которого Манон увидеть не пришлось, и она ужасно жалела об этом, потому что ох и веселым получался дедушка человеком – по рассказам папы Энрико! А вот папа Хайнрих, увы, никогда не рассказывал про дедушку Лео – словно он, ей-богу, не от дедушки Лео произошел, а от совсем другого какого-нибудь дедушки… Хотя у папы Хайнриха и папы Энрико одна и та же фамилия была, дедушкина: Линденхофер.
В школу ее, конечно, итальянскую отправили: с дитем-то чего ж сражаться? Ну, итальянка, и пусть, не все ли равно, при том, что остальные трое, две сестры старшие и брат, тоже старший, австрияки австрияками. Авось, когда-нибудь наиграется, а как наиграется – в австрийскую школу переведем, делов-то. Ан – не наигрывалась Манон, оставалась итальянкой, друзей австрийских, и тех не заводила, одни итальянцы вокруг копошились, непонятно откуда и брались… Итальянцы, а в крайнем случае – словенцы. По-словенски Манон тоже бойко говорила. Но вот австрийский немецкий захромал в конце концов, оно и понятно: в итальянском-то окружении. Ты, смотри, свой-то язык совсем не забудь, а то стыдно, просила мама, огорчаясь, что даже с сестрами и братом не было у Манон особого контакта.
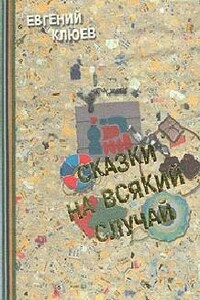
Евгений Клюев — один из самых неординарных сегодняшних русскоязычных писателей, автор нашумевших романов.Но эта книга представляет особую грань его таланта и предназначена как взрослым, так и детям. Евгений Клюев, как Ганс Христиан Андерсен, живет в Дании и пишет замечательные сказки. Они полны поэзии и добра. Их смысл понятен ребенку, а тонкое иносказание тревожит зрелый ум. Все сказки, собранные в этой книге, публикуются впервые.

В самом начале автор обещает: «…обещаю не давать вам покоя, отдыха и умиротворения, я обещаю обманывать вас на каждом шагу, я обещаю так заморочить вам голову, что самые обыденные вещи станут загадочными и в конце концов непонятными, я обещаю завести вас во все тупики, которые встретятся по дороге, и, наконец, я обещаю вам крушение всех надежд и иллюзий, а также полное попирание Жизненного Опыта и Здравого Смысла». Каково? Вперед…Е. В. Клюев.

Сначала создается впечатление, что автор "Книги Теней" просто морочит читателю голову. По мере чтения это впечатление крепнет... пока читатель в конце концов не понимает, что ему и в самом деле просто морочат голову. Правда, к данному моменту голова заморочена уже настолько, что читатель перестает обращать на это внимание и начинает обращать внимание на другое."Книге теней" суждено было пролежать в папке больше десяти лет. Впервые ее напечатал питерский журнал "Постскриптум" в 1996 году, после чего роман выдвинули на премию Букера.

Эта – уже третья по счету – книга сказок Евгения Клюева завершает серию под общим названием «Сто и одна сказка». Тех, кто уже путешествовал от мыльного пузыря до фантика и от клубка до праздничного марша, не удивит, разумеется, и новый маршрут – от шнурков до сердечка. Тем же, кому предстоит лишь первое путешествие в обществе Евгения Клюева, пункт отправления справедливо покажется незнакомым, однако в пункте назначения они уже будут чувствовать себя как дома. Так оно обычно и бывает: дети и взрослые легко осваиваются в этом универсуме, где всё наделено душой и даром речи.

Это теоретико-литературоведческое исследование осуществлено на материале английского классического абсурда XIX в. – произведений основоположников литературного нонсенса Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла. Используя литературу абсурда в качестве объекта исследования, автор предлагает широкую теоретическую концепцию, касающуюся фундаментальных вопросов литературного творчества в целом и важнейщих направлений развития литературного процесса.
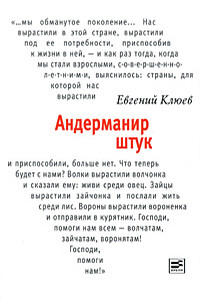
Новый роман Евгения Клюева, подобно его прежним романам, превращает фантасмагорию в реальность и поднимает реальность до фантасмагории. Это роман, постоянно балансирующий на границе между чудом и трюком, текстом и жизнью, видимым и невидимым, прошлым и будущим. Роман, чьи сюжетные линии суть теряющиеся друг в друге миры: мир цирка, мир высокой науки, мир паранормальных явлений, мир мифов, слухов и сплетен. Роман, похожий на город, о котором он написан, – загадочный город Москва: город-палимпсест, город-мираж, город-греза.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)