Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения - [4]
Ключ от квартиры владельца фирмы препровождается при сем в отдельном пакете.
Заранее благодарный и признательный Вам, с совершенным к Вам почтением.
Директор-распорядитель фирмы
Кноп.
Нам пришлось выдумать из головы эту воображаемую переписку, потому что найти в архиве и процитировать что-нибудь подобное трудно. И не только в архиве, но и в современной действительности такой переписки не существует и быть не может.
Зеркало буржуазного правоведения — кривое, зыбкое зеркало. Отношения между людьми денежными и людьми труда отражаются в нем искаженно.
Заглянем для проверки в другое зеркало, в его верную алмазную гладь, отшлифованную рукой великого классика-реалиста.
Внимание! Поднят занавес. Дают действие четвертое драмы А. Островского «Гроза». Выходят купец Дикой и изобретатель Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.
Д и к о й. Ишь ты, замочило всего (Кулигину). Отстань ты от меня! Отстань! (С сердцем.) Глупый человек!
К у л и г и н. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.
Д и к о й. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?
К у л и г и н. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (показывает жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу, уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение, — для глаз оно приятней.
Д и к о й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли! Ишь ты — какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.
К у л и г и н. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.
Д и к о й. А, может, ты украсть хочешь; кто тебя знает!
К у л и г и н. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.
Д и к о й. Ну и пущай знают, а я тебя знать не хочу.
К у л и г и н. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?
Д и к о й. Отчет, что ли, я стану тебе давать? Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты судиться, что ли, со мной будешь! Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.
К у л и г и н. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «и в рубище почтенна добродетель!»
Д и к о й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!
К у л и г и н. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю; а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была бы только воля на доброе дело. Вот, хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем громовых отводов.
Д и к о й (гордо). Все суета!
К у л и г и н. Да какая же суета, когда опыты были!
Д и к о й. Какие-такие там у тебя громовые отводы?
К у л и г и н. Стальные.
Д и к о й (с гневом). Ну, еще что?
К у л и г и н. Шесты стальные.
Д и к о й (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну а еще что?
К у л и г и н. Ничего больше.
Д и к о й. Да гроза-то что такое по-твоему? А? Ну, говори!
К у л и г и н. Электричество.
Д и к о й (топнув ногой). Какое еще там электричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин?
К у л и г и н. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:
Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю.
Д и к о й. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! Прислушайте-ко, что он говорит.
К у л и г и н. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (Махнув рукой, уходит.)
Д и к о й. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонко! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю.
Так, в глубоком зеркале сцены правдиво отразились действительные отношения между купцом и творцом, изобретателем и приобретателем в обществе, где законы служат богачам, где власть денег еще неправеднее, чем законы. Отразились не как частный случай, но как жизненное обобщение гениального художника-драматурга. Промелькнули во всех поворотах: правовом, экономическом, политическом. Зеркало драматургии оказалось вернее зеркала буржуазного правоведения.

Вместе со всей советской литературой сражалась на фронтах Великой Отечественной войны и молодая научно-художественная литература. В боях за Родину, против фашистских захватчиков она мужала и крепла. В огне войны продолжалось новаторское творчество: создавался и совершенствовался тот нерасторжимый сплав ума и страсти, научного образа и публицистического слова, который составляет душу научно-художественного произведения. Необходимость обращаться к миллионам порождала особый доступный многим стиль письма.Военные научно-художественные книги советских писателей А. Абрамова, Ю. Долгушина, А. Волкова, О. Дрожжина, И. Нечаева, В. Немцова, З. Перля, О. Писаржевского, Л. Савельева, В. Сытина, В. Орлова и других пользовались большой популярностью у читателей, удостаивались творческих наград.Если повести военных лет многократно перепечатывались и составили целые хрестоматии, то научно-художественным произведениям повезло меньше: эти книжки стали сегодня большой библиографической редкостью.Ниже мы перепечатываем с пожелтевших страниц научно-художественный очерк Владимира Орлова «Подземная гроза», написанный в 1943 году.
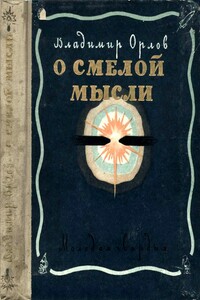
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
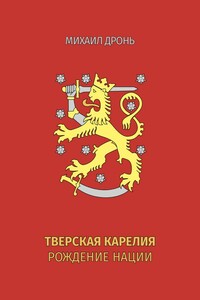
Книга охватывает четыре столетия истории народа тверских карел – с момента переселения их в пределы Тверской области и до испытаний последних лет. Автор прослеживает непростую и временами трагическую жизнь карел Тверщины и старается найти ответы на актуальные вызовы времени. Проблемы языка, самоопределения и государственности как никогда остро стоят перед карельским народом, и от выбранных решений будет зависеть ни много ни мало сохранение этноса и будущее Тверской Карелии.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.