Томас Манн - [131]
Он это «сумел», как умел всегда. Он написал до «прихода разрешения» еще один небольшой роман («Избранник»), еще одну большую новеллу («Обманутая»), он продолжил «Исповедь авантюриста», брошенную в 1911 году, написав первые строки продолжения на той же странице мюнхенской рукописи, где остановился сорок лет назад, а когда эта работа ему наскучила, он решил еще раз после «Фьоренцы», то есть после полувекового перерыва, попробовать свои силы в драматическом жанре, написать пьесу из времен Реформации. И в последние месяцы жизни, собирая материал для этой драмы, которую хотел назвать «Свадьба Лютера», он успел, среди юбилеев, поездок и работы над докладами и статьями, накопить несколько десятков страниц заметок — выписок из исторических исследований, имен, дат, собственных заключений.
Он как-то сказал теперь, что не хотел бы пережить отпущенного ему дара фантазии. Логику и механику этого превращения творческой удачи художника в источник его личной бодрости он очень просто выразил в одном из писем 1954 года к дочери Эрике, хваля ее, находившуюся тогда в угнетенном нравственном и не лучшем физическом состоянии, за ее повести для детей: «Способность доставлять радость, даже пребывая в унынии, можно ведь, пожалуй, всегда считать гарантией того, что в тебе самом еще есть ресурсы для возвращения к собственной радости».
Вот пример так и не изменившей ему фантазии, готовности и на закате жизни к юмористической игре. Случайно и с опозданием узнав в Цюрихе, что одному из его американских знакомых исполнилось шестьдесят лет, он посылает юбиляру в Нью-Йорк письмо, где использует факт поздравления задним числом как повод для маленького гротеска. «...Я по небрежности пропустил этот день. Право, мне жаль. Что бы вам, когда вы недавно доставили мне здесь удовольствие своим визитом, дать мне украдкой знак, вплести в разговор тонкий намек на столь близкое событие, ну, например: «Да, да, время течет, давненько уже, знаете ли, живешь на белом свете. Конечно, я не так стар, как вы, упаси меня бог, но тоже, знаете ли, уже не мальчик, хотя еще довольно-таки бодр и работоспособен, и похоже на то, что и меня уже поджидает нечто кругленькое, да, да, кругленькое...» А я, как человек чуткий, я сразу бы сообразил, что к чему. «Ага!» — сказал бы я про себя и намотал бы себе на ус, и сделал заметку в календаре. А вы молчали и оставили меня во мраке неведения...»
К поистине ребячливым, мальчишеским «возвращениям к собственной радости» парадоксальнейшим образом способен этот глубокий уже, в сущности, старик, теряющий одного за другим сверстников и близких людей и знающий, что «не может дать миру и капли спасительной истины». Его забавляет и смешит решение Цюрихского высшего технического училища присвоить ему, Томасу Манну, звание почетного доктора естествознания (а не литературы или философии). Узнав, что его наградили орденом Почетного легиона, он просит прислать ему из Франции несколько орденских ленточек, чтобы иногда носить их. Он устраивает себе аттракцион, испросив аудиенцию у папы римского, и, вспоминая о ней, отмечает в письме, что папа «никак не выпускал мою руку из своей». С такой же веселой улыбкой сообщает он при случае своим корреспондентам, что на его машине развевается теперь швейцарский флажок. Он по-детски радуется подаркам в восьмидесятый свой день рождения, особенно перстню, сделанному по эскизу семьи. «Он еле дождался часа, — пишет Эрика, — когда можно было поехать с матерью в город и снять мерку для кольца... «Вы довольны?» — спросил ювелир. «Очень, — заверил его отец. — И знаете, ведь действительно любопытно, как образуется такой камень и чего он только не содержит, немного хлора, например, и...» Продавец в замешательстве заморгал. Видно было, что он понятия не имел о доле хлора в своем турмалине и никак не ждал поучения на этот счет. А Т. М. заглянул в справочник, как только камень стал его собственностью. Он хотел владеть им полностью и разглядеть этот прозрачный камень действительно насквозь, во всех его свойствах и составных частях». И в свете подобных свидетельств легко представить себе, сколько радости примешивалось к его грусти и горечи в мае 1955 года, когда этот, всегда склонный к поискам символических закономерностей в собственной жизни и всегда возвращавшийся мыслями к своей северной родине человек благодарил любекцев за звание почетного гражданина в той самой ратуше, где его отец был избран сенатором, а в том самом театре, где он, Томас Манн, мальчиком впервые услышал «Лоэнгрина», слушал теперь исполняемый специально в его честь пролог к этой опере, а затем читал вслух из «Тонио Крегера» из «Иосифа», из «Феликса Круля»...
И в последнем большом эссе, в «Слове о Шиллере», он, верный привычке рассказывать о себе в третьем лице, переплавлять исповедь в образы, объективизировать субъективное, — в «Слове о Шиллере», он, словно подтрунивая над своей ребячливостью, словно признаваясь, что знает ее за собой, особо отмечает и выделяет эту черту в характере Шиллера. «И вот, — говорит он о Шиллере, — за этой почти чрезмерной, почти сверхъестественной мужественностью... скрывается ребенок, для которого превыше всего на свете игра и который сказал, что из всех существ на земле только человек умеет играть и он лишь тогда вполне человек, когда играет. Это, конечно, эстетико-философская теория. Но улыбка, которую нам подчас приходится удерживать, дивясь грандиозности Шиллера, вызывается присущим ему вечно мальчишеским началом, его увлечением некой высокой «игрой в индейцев»... «Я все еще думаю, — говорит он чуть дальше, — об этой черте Шиллера, которая так своеобразно сочетается с его величием, — о вечном мальчишестве и детской любви к приключениям».
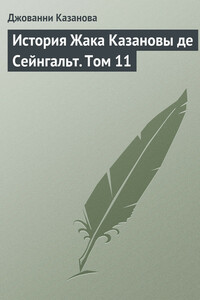
«Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски.
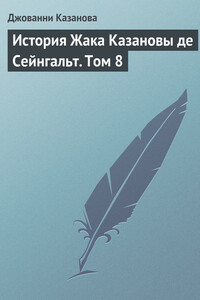
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.
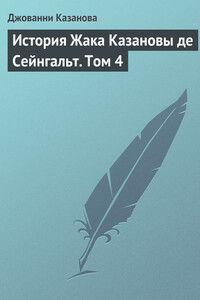
«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично.
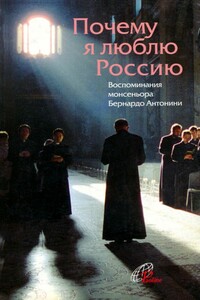
Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.