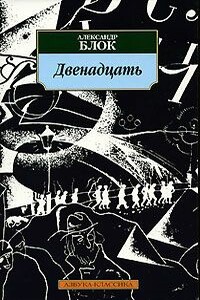Что касается вопроса об участии моем в первом публичном собрании, то я хочу этого, думаю об этом серьезно и буду думать, но боюсь, что, кроме моих постоянных занятий (я редактирую стенографические отчеты Чрезвычайной следственной комиссии), у меня могут теперь как раз явиться еще более спешные и ответственные (в той же комиссии); так что (в этом случае и при том разъединении, которое существует в моей собственной душе) я не сумею ничего обдумать и написать без ущерба для служебной работы.
Искренно преданный вам Ал. Блок.
436. Матери. 4 августа 1917. <Петроград>
Мама, по твоему последнему письму я вижу, что твое беспокойство все больше питается шахматовской глушью. Тем не менее, хотя я очень понимаю это, я считаю, что теперь тебе надо еще там остаться некоторое время, что это будет, в общем, полезнее. Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую (с вечной водевильной примесью) полосу, все тащат «тягостный ярем». Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить. Спасает только работа, спасает тем, что, организуя, утомляет, утомляя, организует. Люба и работа — больше я ничего сейчас не вижу.
Третьего дня допрашивали Гучкова. Трудно быть мрачнее его и говорить мрачнее. Вчера я приступил к работе для отчета, весь день делал подготовку. Сегодня пошел на допрос Милюкова, но слышал только его первые фразы, потому что очень торопился: председатель поручил мне сделать спешно, к завтрашнему дню, большую редакционную работу (для Керенского; я уже ее сейчас сделал).
Прилагаю деловые записки о тетиной квартире.
Могу прибавить, что я уже читаю «Русскую волю»; да и вообще — «рожденный ползать летать не может»!
Купаюсь все-таки. Завтра надеюсь, после еще одного заседания, вырваться купаться. Господь с тобой.
Саша.
437. Андрею Белому. 9 апреля 1918. <Петроград>[68]
Милый Боря.
Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist'ом.[69] Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.
В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от не прошедшей еще усталости.
Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга; а мне показалось, что Ты «испугался», как одиннадцать лет назад — «Снежной маски» (тоже — январь и снег). Хочу, чтобы письмо передал Тебе Разумник Васильевич, с которым мне часто бывает хорошо и «особенно» (уютно и тревожно вместе). Крепко Тебя целую.
Твой Ал. Блок.
438. Матери. 26 апреля 1918. <Петроград>
Это верно, что я «в вате», но мне не менее трудно жить, чем тебе, и физически, и душевно, и матерьяльно; кроме того, я с утра до вечера пишу, сосредоточиваясь на одной теме, очень мучающей меня и трудной для меня. У Любы тоже большие затруднения, и она не в духе. Оттого у нас в квартире такая тяжелая атмосфера. Потому не будем ссориться.
Саша.
439. Ю. П. Анненкову. 12 августа 1918. <Петроград>
Многоуважаемый Юрий Павлович.
Пишу Вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович ждет и завтра должен отправить письмо Вам.
Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо, — т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.
Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, — говорили с Вами сейчас, — мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.
Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.
1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже — на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордостъ» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).