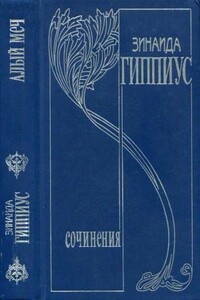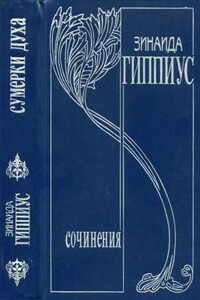Максим Горький не очень сильный, не очень широкий человек, но будь он даже сильнее и шире, с тем же душевным складом и особенностями, – он бы только дольше боролся с одеревенением, и все-таки бы пропал. Горькому нужна Россия, как хлеб. Конечно, «властителем дум» он бы не остался и без этого великого несчастия – изгнания: где ему угнаться за галопом и смутой современности! Но свой небольшой талант, – единый талант, – он все же не зарыл бы в родную землю, как зарыл в чужую. Вины его нет. Он не ленивый раб, с него не спросится. Спросится с рабьей страны, которая тупо изгоняет всех, кто хоть как-нибудь, хоть мало-мальски, способен послужить ей. Или запирает, или выгоняет, – губит во всяком случае.
Удивительна душа русского писателя, русского деятеля, вообще русского человека. Вот попал Горький в Европу. Беда, не спорю; но ведь Европа не тюрьма, и в Европе люди живут, от них можно чему-нибудь научиться, не забывая России. Нет, Горький как слепой, не видит, не слышит, не интересуется. Живет в глуши, точно в ссылке. Напряженно мечтает о России, напряженно пишет о России, о русских людях, которых уже не знает. Пишет по воспоминанию, по узким догадкам, – и фальшиво-призрачны его повести, и жалостно-безатмосферны его романы. Если бы Горький был чистым художником, – дело, вероятно, обстояло бы лучше: но немногим лучше. Странное русское свойство – задыхаться без России, как рыба без воды, – близко в той или другой степени каждому из нас. Странное… и, кажется, печальное свойство. Герцен, человек недюжинной силы и, главное, человек культуры, – даже его изъела эмиграция; какое страдание слышится в его завете: лучше… лучше все, только никогда, ни в каком случае, не делаться эмигрантом. А вот китайский вождь революции двадцать лет был эмигрантом, двадцать лет пробыл в Европе, а потом взял да и сделал революцию на родине. У нас же не только общественные деятели тотчас разевают рот и зарываются в песок, попав в Европу, но и писатели немеют, никнут или несут упрямую и ненужную чепуху. Устоя какого-то нет, и тот же Горький, исповедуя человечество и социализм, – в сердце своем, по плоти своей – националист. Заговорив о эмигрантах, – я остановлюсь на недавно вышедшем романе г. Винниченка из эмигрантской жизни. Печально русское свойство растериваться и гибнуть вдали от родины; однако есть в нем, с другой стороны, и что-то трогательное, милое, глубокое; оно может, могло бы, проявляться не слабостью, а силой. То есть, не растериванье, конечно, а вот эта крепкая, плетяная связь со своей землей, с языком, со своим народом. Тут любовь, – а любовь всегда сила, – если только она сознательна, не слепой инстинкт. Растерянные, гибнущие – не плохи; только по-русски еще слепы, неразумны, – воистину некультурны. Я знаю эмигрантов: всякие есть; но роман г. Винниченка мне кажется если не клеветой на них и на их жизнь, то во всяком случае написанным «от дурного взгляда».
Роман озаглавлен «На весах жизни» и напечатан в 9-м сборнике «Земля» (Моск. К-во.) Кстати об этом 9-м сборнике. «Земля» – единственный у нас теперь хороший альманах. Он дает имена, – книги его почти всегда интересны. Не погоня ли, однако, за именами украсила девятый сборник позорным пятном – рассказом Арцыбашева «Сильнее смерти»? Я ничего не понимаю в этом инциденте и отказываюсь его объяснить. Факт же тот, что «Сильнее смерти» (оригинальное заглавие, чуточку не «Fort comme la mort»[66]) дословное повторение рассказа, очень известного, Вилье де Лиль Адана. Сюжет тот же, место и время действия – те же, детали – до моргания левым глазом – те же. Размер рассказа приблизительно тот же. Разница: где у Вилье страшно – там у родного нашего Вилье – грубо и смешновато и риторично; где у одного Вилье тонко – у нашего лубок. Г. Измайлов в «Русском Слове» пытался объяснить «странность» этого «совпадения», плел что-то о «бессознательном сохранении в памяти писателя слышанного анекдота», а потом – что «les beaux esprits se rencontrent»[67], – но ведь это же курам на смех такие объяснения. Мне сердечно жаль обезображенного Вилье, и не надо никаких объяснений. Пусть только составители «Земли» будут в грядущем аккуратнее и не так слепо доверяют «именам».
Возвращаюсь к роману г. Винниченка.
Помимо «дурного взгляда» в романе есть еще и дурной вкус. Какая-то «немодность» во всем этом произведении. Боже меня сохрани требовать непременно «модности», но когда сам автор ее от себя требует, изъявляет на нее претензии, то поневоле досадуешь, замечая третьегодняшние словечки, поза-поза-прошлогодняшние фактики, типики, настроеньица; зачем выдавать их за текущий момент? Как ни «отстали» эмигранты, все же не предаются они с упоением (теперь!) доморощенному декадентству, не видят расслаблен-но-«сизых» снов, как непостижимый Шурка, не преклоняются перед великолепными ницшеанцами первого выпуска, вроде Фомы; а девицы эс-ерки и эс-дечки, в общем, не склонны превращаться в девиц легкого поведения, и Аннет совсем не типична. Что эмигранты голодны, несчастны, растеряны, беспомощны в громадном большинстве, что они не могут подойти к чужой жизни, варятся в собственном соку, томятся тоской по родине, одиноко умирают, – обо всем этом мы знаем и без г. Винниченка; истории же, которые он нам рассказывает, и лица, которые в них действуют, больше напоминают Москву конца XIX столетия, нежели современный эмигрантский Париж. Очень возможно, что г. Вииниченко брал кое-что с натуры; это нисколько не меняет моего мнения о романе как о произведении художественно фальшивом; художественность достигается, между прочим, умением «выбирать», «отбирать» нужное от ненужного, интересное от неинтересного и нехарактерного. А тот соус, который подал нам г. Винничеико, совершенно не замечателен и сделан из каких то несвежих эмигрантов.