Том 7. Кой про что. Письма с дороги - [7]
— Просто бы сказал жареное, по-нашему, по-русски, — продолжал баловаться и болтать что придет в голову сорокалетний балованный барчук, — а то фрит какой-то?.. Отчего фрит? Почему фрит?
— А потому фрит называется, — улыбаясь тою же заботливой улыбкою, заговорил лакей, — что фрит есть слово повсеместное. Ведь на свете всякого народу много — немцы, французы, армяне, персианцы — мало ли?.. У всякого свое название всему… Теперича, положим, существует название жамбон. Кажется, что такое? Ежели разобрать, больше ничего <как> оказывается ветчина, очень просто! Ну, а как ежели всякий бы иностранец по-своему спрашивал, тогда ничего невозможно разобрать… Вот поэтому самому и устанавливается для повсеместного смысла одно название — фрит, например, омлет или, так сказать, беф, шатобриан, кюлот!..
Скучающим гражданам с каждым словом этого монолога становилось почему-то легче и веселее. Вероятно даже, что причиною этого была совершенно неожиданная тема разговора, тема, решительно не имевшая ничего общего с теми современными, до крайности утомительными темами, которые уже до невозможности надоели нашим скучающим и из которых они, однако же, никаким образом не могли выбраться. Скучающие граждане наши, исчерпав в течение утомительного дня все эти утомительные темы разговора и убедившись, что безрезультатность их необходимо завершить чем-нибудь решительным, вроде ужина, когда и есть-то даже не хочется, — были приятно удивлены, что, помимо утомительных тем, казалось бы исчерпывающих решительно все вопросы жизни до самого корня, существуют еще какие-то темы непредвиденные и достойные размышления.
— Да, — балуясь, серьезно произнес земец. — Так вот, брат, какая штука фрит! Ну, а кюлот что такое?
— Просто сказать — говядина.
— Да! Но какая… как она?.. какое место?
Лакей как будто затруднялся ответом.
— То есть… как сказать?.. мясо!..
— Ну да, мясо, но какой сорт?.. Ну вот антрекот один сорт, а кюлот?..
Лакей потупился, и на его лице легла какая-то жалобная черта.
— Этого, извините, — робко проговорил он, — этого всего нам разобрать невозможно!
— Так как же ты можешь служить?
— Как служить? Названия знаем, а так, чтобы вникать в это, нам невозможно! Нам, дай господи, только не забыть названия да до кухни добежать, не перепутать; иной раз подаешь троим, четверым, в двух кабинетах — дай бог только это упомнить. А чтобы так до тонкости знать, это даже и сил наших не хватит.
— Будто?
— Поверьте! Помилуйте, одного бефу двадцать пять сортов, соуса и с томатом и с финзербом или, теперича, вина, ликеры? Ну, вина еще так-сяк — нумера… А ликеры, например? цвет один, а вкус разный; один говорит: «жинжеру», а другой бенедиктину требует. Помилуйте, от одних ликеров — покуда запомнишь, какие у какой бутылки бочка, — и то голова кругом пойдет! Мы иной раз в шестом часу гостей провожаем, а в девять опять на ногах… Как можно нам знать все! Слава тебе господи, что хоть прейскурант-то вызудил без ошибки, извольте-ка посмотреть книжку-то, а ведь ее надо всю насквозь знать!
Начав разговор как самый ординарный трактирный лакей, продолжая его в простодушном и шутливом тоне заботливой няньки, при последних словах этот шаблонный человек неожиданно для всех вдруг предстал пред скучающими господами во образе самого кроткого добродушного деревенского мужика, работника, каторжного работника, в поте лица своего зарабатывающего хлеб. Кто-то нарядил его во фрак, научил его держаться по-лакейски, заставил выражать всей своей фигурой удовольствие при виде кушающих и пьющих господ, заставил «затвердить» сотни каких-то слов, неведомо что означающих, словом, замаскировал и скрыл его подлинную человеческую суть, — и вот эта-то суть, горькое, каторжное существование простого рабочего человека, недосыпающего и недоедающего, вдруг зазвучало в его монологе о ликерах и финзербах так ясно и так жалобно, что: скучающие посетители не осмелились продолжать шутки.
— Конечно, — продолжал лакей, уж не как лакей, а как каторжный работник, — конечно, кто знает, например, иностранный язык и досуг у него есть, так это очень легко затвердить, а нашему брату, мужику, очень это трудно! Я отродясь не знаю, каков-таков и досуг-то есть на свете… Десяти годов меня в Петербург представили из деревни-то… У нас в Ярославской губернии народ все отхожий — то в Москву, по трактирной части, то по фабричной… У меня отец на фабрике помер, остались мать, две сестры маленькие да я по десятому году. Мать-то на фабрику пошла, а меня в Питер увезли. Нас, ярославских ребят, как телят, в Питер возят. Такие есть мужики — наберет мальчишек штук десяток, на свой счет представит их в Питер ли, в Москву ли и раздает по трактирам, по кабакам. Конечно, на этом и наживает с хозяев. Там меня десяти годов на Сенную, в самый черный трактир определили. День и ночь торговали, извозчицкий. Два года стоял за стойкой, посуду мыл. А что побоев! Все по голове, все по затылку, с оплеухой! Так сколько я претерпел, покудова господь меня сподобил с Сенной-то из вертепа достигнуть до ресторана! Конечно, добрые люди помогли, научили всему.
— Да чему же тут учить?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
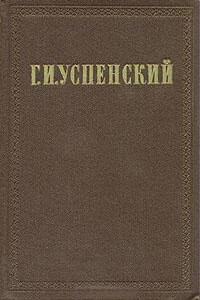
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
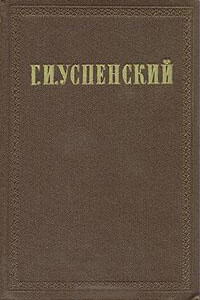
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
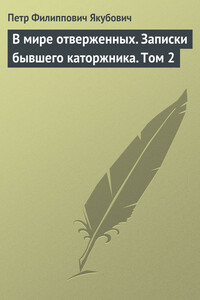
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
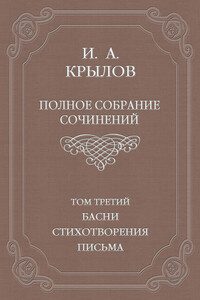
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
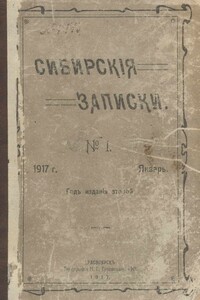
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.
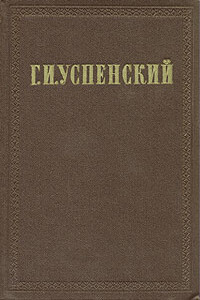
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.В пятый том вошли очерки «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями», «Пришло на память», «Бог грехам терпит», «Из деревенских заметок о волостном суде» и рассказ «Не случись».http://ruslit.traumlibrary.net.
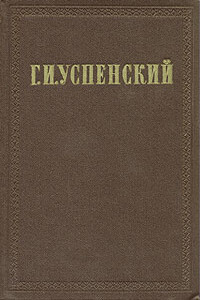
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.В четвертый том вошли очерки «Из деревенского дневника», «Мученики мелкого кредита», «Непорванные связи», «Овца без стада», «Малые ребята» и «Без определенных занятий».http://ruslit.traumlibrary.net.
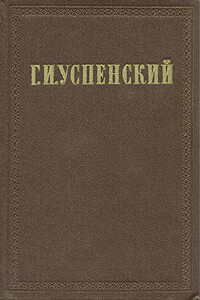
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.В первый том вошли очерки «Нравы Растеряевой улицы», «Растеряевские типы и сцены», «Столичная беднота», «Мелочи» и другие очерки и рассказы 1812–1866 гг.http://ruslit.traumlibrary.net.
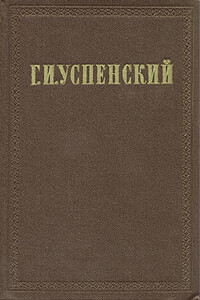
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.В шестой том вошли очерки «Волей-неволей», «Скучающая публика», «Через пень-колоду» и другие.http://ruslit.traumlibrary.net.