Том 4 - [35]
«Спящий пробуждается» мирного Уэллса толковали как взрыв, как лозунг.
«Записки цирюльника» Джерманетто разрывались на части рядом с романом о Спартаке. Этих книг оказалось не так мало.
Я не знаю, включил ли Керенский себе в заслугу эти многочисленные издания, которые вышли к душе читателя.
Не «Антона Кречета», не Ната Пинкертона, не «Пещеру Лейхтвейса» требовал новый читатель, а то, что было вокруг него и где он сам мог найти сразу в день, в час свое самое активное место.
Соответствие слова и дела этих авторов определило мою судьбу на много лет вперед
Герцен и Чернышевский, явившиеся в магазинном издании, много теряли в своей привлекательности, не были столь жизненно важными — кислорода в них было маловато, то есть попросту таланта.
Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память. Знаю все почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю почему, я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким друг им. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это — книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.
Этот фокус документальной литературы рано мной обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, которые создают такие книги.
Запойное мое чтение продолжалось, но любимый автор уже был определен.
Первая за триста лет свободная манифестация продолжалась.
Как всегда, кто-то кого-то толкнул, вырвал из рук кумачовый лозунг, разорвал ряды людей, пытавшихся спеться на ходу, хотя бы на «Вы жертвою пали…».
— Звездани его! — кричал вологодским глаголом молодой милиционер с красным бантом своему товарищу про нарушителя, прорвавшего ряды.
У праздника был свой план, диспозиция.
Отец неодобрительно покачал головой и вывел меня в сторону от перебранки.
— Толпа — это толпа, — прошептал отец.
Эти слова я вспомнил позже, когда читал дневник комиссара Временного правительства Панкратова,[25] народовольца и бывшего шлиссельбуржца. Панкратов караулил царя в Тобольске, был комиссаром Временного правительства при царе, когда Временное правительство уже не существовало. Панкратов запретил царю и его семье молиться в соборе, хотя собор был через площадь в несколько десятков метров.
Когда царь попросил объяснений и заявил протест, Панкратов, сам шлиссельбуржец, сам испытавший немало расправ русского православного народа с врагами царя, заметил царю так:
— Да, это я запретил. Мой приказ. Поймите, гражданин Романов, толпа — есть толпа.
И Николай Романов понял и больше не просил разрешения ходить в собор, а молился в домашней церкви.
Было тут что-то общее не в ситуации, а в самом существе дела.
Если бы я пробегал на улице этот день один, а не прошагал, держась за руку отца, я больше бы почувствовал, больше бы понял, настолько был тонок мой нервный механизм, всегда напряженный. Но отец и не думал о таком варианте. Он считал, что, если он сам, своей рукой будет водить меня по праздничной России, я крепче запомню все, что увижу, запомню, во всяком случае, и его собственное участие в моем приобщении к «великим вопросам России».
Во всяком случае, кроме глухого недоброжелательства к отцу и недовольства этим путешествием. — память моя ничего не сохранила.
Мне все время было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно было в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы.
Мне все время казалось, что я чего-то не сделал — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера.
Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары.
Даже в первой моей семье дело кончилось крахом — двадцатью двумя годами тюрьмы заплатил я при столкновении интересов семьи и государства. Государство топтало любые семьи, дробило их на мелкие. Можно было сказать что-то, что-то склеить, если бы моя семья опиралась на семью, не прибегая к помощи государства.
Увы, в нашей семье при всех обстоятельствах делался выбор всегда в пользу государства, хотя это никого и никогда не спасало.
Но сейчас не время, да и не место вспоминать что-либо, кроме Вологды, — все мое прошлое было еще впереди.
Незадолго до революции в Вологодскую губернию была выслана знаменитая анархистка — миллионерша, баронесса Дес-Фонтейнес.
Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в фонд какой-нибудь революционной партии России — как это часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность использовать свои колоссальные деньги в высшей степени эффективным и оригинальным способом.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.
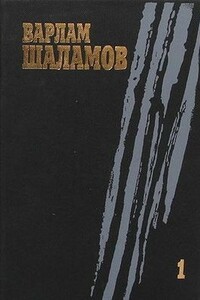
В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли рассказы из трех сборников «Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».
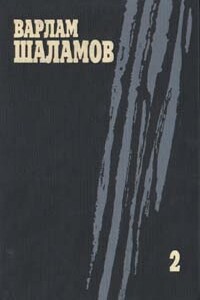
Во второй том Собрания сочинений В. Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».
