Том 4. Лунные муравьи - [5]
Заходил в две чайные. Нет. Тепло и ветрено, хотя не очень мокро. Такую погоду еще можно выносить.
Собрался уж домой – вдруг мелькнула затененно, за углом, знакомая, танцующая фигура.
Догоняю и тихонько окликаю:
– Эй, Выкрест!
Выкрест обернулся и посмотрел враждебно.
– Чего вам?
– Да чего ты? В чайную не хочешь зайти? Куда вы все провалились?
Выкрест продолжал глядеть сурово.
– Нет уж, господин, вы лучше идите по своим делам, не задерживайтесь.
– Да ты с ума-то не сходи, – прикрикнул я на него. – Коли занят, убирайся ко всем чертям, я Ваньку-Хана пойду искать.
Окрик, как всегда, отлично подействовал. Выкрест под-танцевал ко мне ближе и, оглядываясь, забормотал:
– Извините, я по случаю того, что я на замечании с некоторого времени. Даже фуражку университетскую принужден был скинуть. А Ваньку-Хана вы, извините, не сыщете.
– Это почему же?
– Да уж так. На казенных хлебах он.
– Вот что! Давно ли?
– Давно ли, нет ли, – зашептал Выкрест, придвигаясь еще ближе, – а только уж теперь каюк. Городовому в морду он съездил, извините за выражение!
– Ну! Пьян, что ли, был?
– Ни-ни, не выпивши! Скандальчик тут у нас, конечно, вышел, ну и ничего бы, а Ванька, точно его разорвало, как хлястнет! Ножик, между прочим, обнаружен был… Да черт с ним, с дьяволом, совсем, – прибавил Выкрест, внезапно озлобившись, – других бы кого не запутал, матери его…
– Ну ладно, прощай, – сказал я. – Одурели вы все давно, ну и пропадайте!
– Да это верно, что одурели. Но я, извините, как вы всегда были столь любезны… Я ведь разговор понимаю. Катькой вы Каменной интересовались для наблюдения… А теперь вот эти две девчонки облопались.
– Что вы городите? Какие еще девчонки? Подите лучше, выпейте, так и быть. А я домой собрался.
– Благодарю вас, – с достоинством произнес Выкрест, пряча рубль. (Деньгами я их не баловал, но уж пусть, на прощанье.)
– Чувствительно благодарю. А девчонки это верно. Дашка да Варька. На извозчика сели, да и опорожнили. В Обухов-скую так прямо их извозчик и повез.
– В Обуховскую?
– Да куда ж их еще? Не во дворец же везти?
Идиотски захихикал. Я круто повернул от него. Так вот кто «неизвестные девушки» в газете! Варя и Даша, глупенькие и веселенькие, как воробьихи! Да какие там воробьихи! Из муравьев они лунных. «Вдруг» – что-то неприятно, «вдруг» – на гривенник эссенции и «вдруг» – выпили. А потом… «Больно, но хорошо!» – как говорила Люботинкина сестра «уж после причастия». Подвернулась лапка и хрустнули крылышки.
Несвежий, оттепельный ветер захватил мне дыханье. Я переждал – и пошел опять.
27-го ноября, 3 часа ночи
Кончено. Пусть последним днем этого моего дневника будет сегодняшний день, когда я ездил в Обуховскую навещать веселеньких моих муравьих. И когда я понял последнее, что мне следовало понять. Закрывайся, тетрадка! Валяйся где хочешь! Ты мне больше просто не нужна.
Узнать о девчонках в этой проклятой больнице было не легко. Но я заупрямился. Решил, что непременно добьюсь. Занятым людям надоел. И когда уже добился – увидел, что, в сущности, можно было и не узнавать.
Мне сказали, что Даша умерла вчера, а Варя уже сутки без сознания и умрет скоро. Предлагали войти к ней, но я не пошел смотреть на Варю без сознания.
Вернулся домой и вот сижу в своей привычной комнате, с привычными бумагами и книгами, с зеленой лампой, которая всегда немножко пахнет керосином.
Лунные муравьи… А почему не сразу пришло мне в голову (теперь только пришло), что и я тоже, что и я сам – лунный муравей? Ведь для меня – это и есть самое важное. Теперь-то я понимаю. Понимаю, что и не могло быть иначе. Ведь и я удушен тем же удушьем, отравлен тем же прозрачным, невидным и злым газом, который наполз на мою землю и обратил людей, – исподволь, – в хрупких, валких, нежных муравьев. Мы все не думаем о смерти, не видим ее, – потому что слишком она близко, слишком – вот она.
Убьют, толкнут, удавят, – убьемся, натолкнемся, удавимся, – все равно мы умираем, и все одно и то же «в смысле результата», как говорил Иван-Хан. И самому убить можно, чтобы награбить сто копеек (1 рубль), да пропить. Опять «результат один», потому что смерть же, и твоя же, в конце концов. Так и пойдет трупик на трупик, горкой: валялись же муравьи один на другом в лунном подземельи. И пусть.
Я тоже нисколько не думаю о смерти, живу себе спокойно. Но вспоминая – вспоминаю, как я был человеком. Могу, пожалуй, проследить, когда именно началось это мое (наше) превращение. Да, да, вот когда кончались «переворотные» годы. Они кончались, а превращение начиналось; ведь тогда-то и поползли первые струйки ядовитого газа. Я прежде не любил вспоминать этих годов, времени, когда я еще был человеком, – но раз уж я понял и покорился муравьиное™, то можно и вспомнить.
От равнодушия я не верю в возможность спасения, – изменения. Ведь какая сила дыханья нужна, чтобы сдуть тяжкие пары, чреватые ядом; ведь приникли они к земле нашей близко, тесно, цепко. Божье разве дыханье сдуло бы их, смело, очистило смертно-затихшую землю… Божье разве.
Я не помышляю убивать себя. Ведь мне живется спокойно. Однако на всякий случай, чтобы после уж не возиться, я выдвинул из-под кровати запыленный ящик фотографических принадлежностей и нашел баночку с миндально-белыми кристаллами.

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Зинаида Николаевна Гиппиус — удивительное и непостижимое явление "Серебряного века". Поэтесса, писательница, драматург и критик (под псевдонимом Антон Крайний), эта поразительная женщина снискала себе славу "Мадонны декаданса".Долгое время произведения З.Гиппиус были практические неизвестны на родине писательницы, которую она покинула в годы гражданской войны.В настоящее издание вошли роман "Чертова кукла", рассказы и новелла, а также подборка стихотворений и ряд литературно-критических статей.
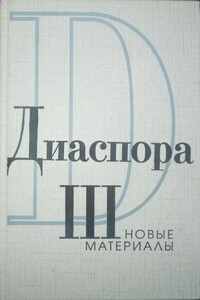
Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции.Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А. Богомолова.Из книги Диаспора: Новые материалы.

Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.В восьмой том собрания сочинений вошли письма 1898-1921 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Максим Горький описывает, с обычным своим искусством и жизненностью, уличную сутолоку больших городов – Берлина, Парижа, Нью-Йорка и др.

Это средняя часть трилогии «Творимая легенда», русского писателя Фёдора Сологуба.«Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни.Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова…
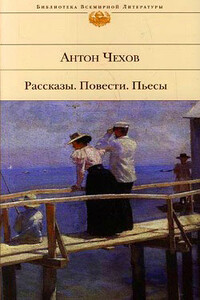
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».
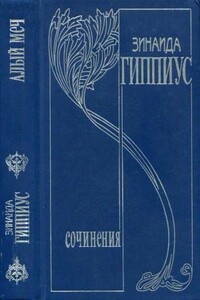
В третьем томе Собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Гиппиус (1869–1945) впервые в полном составе публикуются сборники художественной прозы: «Третья книга рассказов» (1902), «Алый меч» (1906), «Черное по белому» (1908), а также ее «Собрание стихов. Книга вторая. 1903–1909» (1910).http://ruslit.traumlibrary.net.
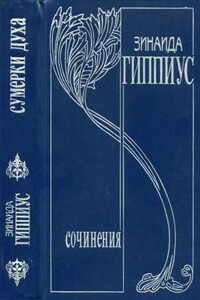
Во втором томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются второй сборник повестей и рассказов «Зеркала» (1898) и неизвестный роман «Сумерки духа» (1900). Эти произведения одного из зачинателей русского модерна критики отнесли к приметным явлениям литературы начала XX века. В том также включена первая книга выдающейся поэтессы – «Собрание стихов. 1889–1903».http://ruslit.traumlibrary.net.

В настоящем томе, продолжающем Собрание сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), публикуется неизданная художественная проза. Читателям впервые представляются не вошедшие в книги Гиппиус повести, рассказы и очерки, опубликованные в журналах, газетах и альманахах в 1893–1916 гг.http://ruslit.traumlibrary.net.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.