Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки - [40]
Так я говорил, трепетал, словно маленький мальчик, и вдруг кровь ударила мне в голову так сильно, что я почуял испарину на лбу и безмолвно сжался в комочек от явного присутствия в моем существе ничем не измеримого стыда.
– Краснеете, Ланге, – сказал первый хмырина. – Это хорошо. Краснейте.
Есть за что краснеть.
От этой швали не укрылось, что со мной что-то происходит. Но я промолчал. Я в тот же миг понял причину явления такого горячего стыда и ужаснулся. Меня ужаснуло, какие возможные бездны подстерегают человека и его душу при осознании им величайшей из ценностей жизни – свободы, при инстинктивном страхе ее потерять, при слепой защите ее всеми силами, всеми средствами, всей изворотливостью ума. И вот я, Давид Александрович Ланге, затрепетав от приближения неволи, взмолился не отлучать меня от свободы и как бы давая понять – бесстыдная я тварь – не кому-нибудь, а самому Господу Богу, что на все я способен ради нее, на все! Это значит, что где-то в глубине души или ума, черт меня знает где, я прикидывал возможность такой выгодной махинации, такого славного гешефта, при совершении которого я мог рассчитывать остаться на свободе. Так, что ли? Неужели присутствовало во мне желание встать и сказать:
– Товарищ Скобликов! Считаю необходимым дать следующие показания для облегчения своей участи и выяснения правды. Да! Это я записывал в тетрадь крайне антисоветскую клевету. Но это не моя клевета и не мои мысли. Я – глупый. А наговорил мне все это Пескарев Федор Ипполитович. Зачем переписывал, сам не пойму. Простите! Оставьте меня дома для семьи и оклеветанной Родины.
Боже мой, думал я, неужели во мне живет и человек, и мокрица еще хуже и гадливей той, что обитает за моими стенами и сочится сейчас от счастья, что сделали ее понятой при обыске человека, которого она ненавидит за вмешательство в ее изгиляния (издевательства) над беззащитной женой и старухой матерью?
Господи, прости, взмолился я, просвещаясь все больше, не с Тобою вступают в такие сделки, не с Тобою, но с чертом, и спасибо Тебе за ясность, какою должна быть молитва благородного и верного человека, дрожащего от страха кануть из свободы в неволю. Я к Тебе, Господи, обращаю ее в сей миг: упаси всею силой Твоей и благорасположением Твоим ко мне, червю ничтожному, от омерзительных искушений, не принимай вовек моей платы слабостью бесчестья и низостью предательства за желанную и сладостную свободу, ибо Ты открыл мне, как, нечто сохраняя, теряют и поистине живут в заблуждении, что сохранили свободу, как в черной темени тюрьмы. Поистине теперь мне смешно думать, Господи, что кто-то может лишить душу Твоего сохраненного в целости дара, но с ним и тюрьма – не тюрьма, а лишь испытание. Так вот, дай Ты мне силы и впредь для страшного испытания свободой и тюрьмой, не смешивай меня с грязью, бросая в сомнения и недомыслие, избавь от последующего стыда…
Воз, я только сейчас облекаю в точные слова все прочувствованное тогда за какие-то мгновения, но пока они там молчали, составляя протокол, я, может быть, и не старый, но очень пожилой человек, ощущал себя таким маленьким мальчиком, пережившим умопомрачительный страх и тут же, до мучительного стыда, устрашившимся его самого, что внезапное прояснение души довело меня до потрясения в чистом покаянии и исторгнуло горькие и счастливые, словно в детстве, слезы из глаз.
– Ничего… ничего… поплачь… я с тобой, – шептала мне Вера, тыркая в руку носовой платок и, несомненно, правильно понимая все, что во мне происходило, и, хотите верьте, хотите не верьте, именно в те минуты я был счастлив и свободен, как редко бывал свободен и счастлив.
– Слезы лить поздно, Ланге. Москва слезам не верит, – сказал Скобликов.
– Теперь ваши показания важны, а не слезы.
– Плакать надо было, когда притыривали книжицу, – не удержавшись, добавил Гнойков. Его прямо распирало от хвастовства, что нашел-таки он, нашел притырку, когда уже всем казалось, что искать больше нечего.
Кстати, дорогие, в телефонном разговоре со мной вы имели глупость поинтересоваться, где это я набрал таких «словечек». Хорошо еще, что вы не брякнули прямо в подслушивающие уши о моих регулярных нелегальных письмах.
Спасибо вам большое. А «словечек» я не набирал. Они въедаются в язык, как, повторяю, железная пыль и стружка в ладони. Если вы могли бы вообразить, сколько людей за шестьдесят героических лет политруки от имени нашей Родины продержали в тюрьмах и лагерях, где коверкается все нормальное людское – язык, совесть, душа, половые органы, мозг, ноги, желудок, руки, кожа, кровь, цвет глаз, зубы и многое другое, коверкается бывает настолько, что даже ничтожный барачный клоп считает абсолютно невозможным делом продолжать жизнь за счет исковерканного условиями неволи человека, то вы не задавали бы, особенно по международному телефону, дурацких вопросов. Да! Хранил меня Бог и хранит. Сам я сиживал только на «губе», специально не объясняю, что это такое, поищите в словарях, но и на фронте, дружа со штрафниками-уголовниками, и после войны, общаясь с работягами, побывавшими по пустяковым делам в лагерях, я привык разговаривать с ними, извините, трекать и ботать на их языке. Или вы полагаете в своей безмятежно демократической Америке, что если лагерная жизнь миллионов людей стала частью общей страдальческой жизни России, то язык ее должен был остаться прежним: мастеровой – мастеровым, крестьянский – крестьянским, пижонский – пижонским, гешефтерский – гешефтерским, а целомудренно девичий – целомудренно девичьим и так далее? Вы ошибаетесь. Язык лагерей и тюрем, в которых соседствовали судьбы святых и убийц, гениев и растлителей малолетних существ, рабочих и грязных мошенников, крестьян и скотоложцев, балерин и форменных каннибалок, священнослужителей и хулиганов, философов и карманников, язык невинных душ и неимоверных злодеев не мог не смешаться, не мог, как говорит Федор, делать вид, что судьба людей не имеет к его судьбе никакого отношения. Но и приняв в себя то, без чего он вполне сумел бы обойтись, то, что даже безобразно выражало мытарства страны и народа, он не вымер, не утратил своей сущности, считая для себя более приемлемым и безобидным явлением живой воровской жаргон и самый грязный мат, чем мертвую фразеологию партийных придурков и прочих гнусных трекал. И сколько бы десятилетий подряд они ему ее ни навязывали, как бы ни втесывали в самую душу с помощью всех средств своей взмыленной пропаганды, мой родной русский язык отторгает от себя ложь партийного мертвословья, доводя до бешенства казенную писательскую шушеру, жандармерию и кремлевских старичков, давно перешедших с собственной живой речи на слюнявую жвачку референтов. Вы заметили, дорогие, что наши политические руководители без бумажек вообще с трудом ворочают языком? Вывихнуты их языки бесконечными «давай, давай!» и отвычкой думать собственными головами.

Главный герой повести «Николай Николаевич» – молодой московский вор-карманник, принятый на работу в научно-исследовательский институт в качестве донора спермы. Эта повесть – лирическое произведение о высокой и чистой любви, написанное на семьдесят процентов матерными словами.
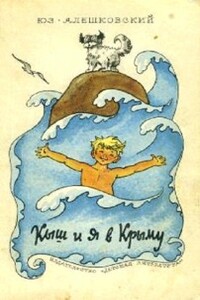
Для многих из вас герой этой книги — Алёша Сероглазов и его друг, славный и умный пёс Кыш — старые знакомые. В новой повести вы встретитесь с Алёшей и Кышем в Крыму. И, конечно же, переживёте вместе с ними много весёлых, а иногда и опасных приключений. Ведь Алёша, Кыш и их новые друзья — крымские мальчишки и девчонки — пойдут по следу «дикарей», которые ранили в горах оленёнка, устроили лесной пожар и чуть-чуть не погубили золотую рыбку. В общем, наши герои будут бороться за то, чтобы люди относились с любовью и уважением к природе, к зверью, к рыбам, к птицам и к прекрасным творениям, созданным самим человеком.

В эту книгу входят замечательная повесть "Черно-бурая лиса" и четыре рассказа известного писателя Юза Алешковского. Во всех произведениях рассказывается о ребятах, их школьных делах, дружбе, отношениях со взрослыми. Но самое главное здесь — проблема доверия к подрастающему человеку.

Роман Юза Алешковского «Рука» (1977, опубл. 1980 в США) написан в форме монолога сотрудника КГБ, мстящего за убитых большевиками родителей. Месть является единственной причиной, по которой главный герой делает карьеру в карательных органах, становится телохранителем Сталина, а кончает душевной опустошенностью...

Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фольклором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…».
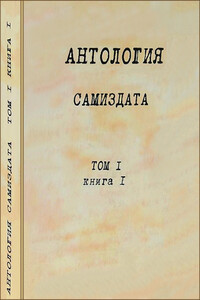
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.
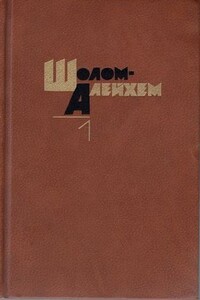
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.

Этот человек, (Ю. Алешковский) слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым – и с радостью – признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не «о» и не «про», ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие «о», «про», «за», «против» и «во имя»; сказать точнее – русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания. Алешковский первым – и с радостью – припишет языку свои зачастую ошеломляющие прозрения, которыми пестрят страницы этого собрания, и, вероятно, первым же попытается снять с языка ответственность за сумасшедшую извилистость этого русла и многочисленность его притоков.

От составителей.Мы работали над этим собранием сочинений более полугода. По времени это срок достаточно большой, но и – крайне маленький, короткий. Большой – чтобы просмотреть интернет-версии произведений Юза Алешковского, выбрать те, в которых меньше ошибок, опечаток. Чтобы привести в порядок расползающиеся при конвертации строки. Большой – для работы, по сути, косметической. И с этой работой мы справились. Хотя кое-где и не исключены какие-то мелкие «блошки».И – срок малый, чтобы сделать настоящее, академическое собрание сочинений.

«Щедрость Юзова дара выразилась в количестве написанного и сочиненного им, в количестве осчастливленных им читателей и почитателей. Благодаря известным событиям творчество Юза вышло из подполья, и к ардисовским томикам добавились скромные и роскошные издания на исторической родине. Его прочли новые поколения, и, может быть, кто-то сумел преуспеть в бизнесе, руководствуясь знаниями о механизмах, управляющих процессами, происходящими в нашем славном отечестве, почерпнутыми из его книг. А может быть, просто по прочтении – жить стало лучше, жить стало веселее».Ольга Шамборант.
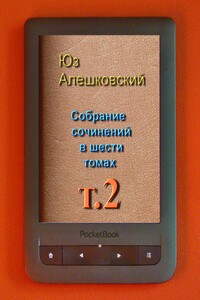
Лев Лосев: "Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. …И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка… exubОrance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову.