Том 3. Журавлиная родина. Календарь природы - [189]
Пришвин особенно настаивал на том, что все его произведения очеркового характера. Между тем сам же писал: «А может быть, очерк вовсе и не форма? Я склонен думать, что это только самое первое зарождение литературной формы, узловая точка, от которой расходятся линии. Мне говорит об этом вся практика моего писания, которая всегда начиналась очерком и только после рассматривалась как рассказ, повесть или роман». Такая неопределенность в осознании жанровой формы своих произведений кажется нарочитой, но свидетельствует лишь о непрестанном поиске художественного совершенства, который всегда приносил Пришвину радость творчества.
«Мой очерк» был напечатан в «Литературной газете» с сопроводительным письмом Горького: «„Мой очерк“ я воспринимаю как совершенно исключительную и почти удачную попытку самопознания и счастливый случай почти верной самооценки. Почти, ибо при всей искренности „Очерка“ автор его – на мой взгляд – недооценивает значения своей работы, хотя и говорит о своем „опыте применения художественного дарования для качественного краеведческого изучения“, для „создания лица края“. Я не уверен, что сумею выразить мою мысль с достаточной ясностью, но для меня ценнейший смысл работы Пришвина сводится именно к его поразительному умению создавать словами лицо его земли, живой образ его страны. Речь идет, конечно, не о пейзаже, для Пришвина пейзаж – одна из деталей его поэмы, которую ему угодно именовать „художественным очерком“. Он сам признает, что в его книгах есть „что-то не от поэзии“ и есть нечто „более сложное, чем искусство“.
Вот это и является для меня самым драгоценным, ибо это я воспринимаю, как замечательное гармоническое сочетание поэзии и знания, возможное только для человека, который любит знать и в любви своей ненасытен. Это – завидное и редкое сочетание; я не видел и не вижу литератора, который умел бы так хорошо, любовно и тонко знать все, что он изображает <…>. Мне нужно сказать о нем, что в его лице я вижу как бы еще несовершенный, но сделанный кистью талантливого мастера портрет литератора, каким должен быть советский литератор» («Литературная газета», 1933, 11 апреля, № 17).
Пришвин так высоко ценил этот отзыв, что с тех пор включал его и в собрания сочинений, и во многие другие издания. Высокая оценка работы Пришвина была дана своевременно. Рапповская критика резко отзывалась о произведениях Пришвина. Его упрекали в однобокости, критиковали за подход к народу не с политической стороны, а со сказочной. «Творимая легенда о берендеевом царстве – это, по существу, опоэтизация остатков древней дикости, идеализация и идиллизация тьмы и суеверия, оправдания старины, а следовательно, один из способов борьбы против нашей советской культуры», – писал критик А. Ефрсмин («Красная новь», 1930, № 9-10, с. 219).
«Мой очерк» и «Охота за счастьем» служат, как справедливо отмечено в критике, своеобразным введением в творчество Пришвина не только 20-30-х годов, но и вообще во всё его творчество. В статье «Желанная книга» Пришвин заметил, что им «делается все время одна и та же единственная книга»[13]. Конечно же, речь идет прежде всего о единстве тем, идей, образов, волнующих автора, и это внутреннее единство отразилось, например, и в том, что Пришвин свободно менял составы очерков в ряде своих книг, перетасовывал свои очерковые циклы, то изымая часть очерков, то вновь включая их в цикл. В «Моем очерке» и «Охоте за счастьем» это внутреннее и внешнее единство утвердил сам автор.
Пришвина постоянно занимала проблема мастерства, и проблема прежде всего собственного творчества, хотя о своих произведениях Пришвин не любил говорить – «мое творчество».
В 1929 году в журнале «Новый мир» была напечатана «Журавлиная родина» – книга о творчестве. Она имеет сложную историю создания. Вначале в ее состав должны были войти детские и охотничьи рассказы, и ранее опубликованные, и написанные вновь. Книгу Пришвин хотел посвятить Горькому в связи с приближающимся юбилеем писателя. Сохранившиеся черновые наброски и планы свидетельствуют, что если бы она была создана, то очень напоминала бы «Родники Берендея» и в целом весь «Календарь природы» – с хронологическим, по сезонам, или, как говорил Пришвин, фенологическим расположением рассказов. Так она и начинается – с первого весеннего прилета неизвестных птиц. Далее повествование должно было разворачиваться «под диктовку» весны, лета, осени, зимы – то есть фенологически, начиная от «времени первого пробуждения творчества в природе».
Приближение к природе, слияние с ней требовали от писателя естественного подчинения законам природы, ее развитию. Но весна задержалась, то есть в природе задержалось весеннее творчество жизни, и, следовательно, писатель оказался вне творческого сотрудничества с природой, к которому он и природа «привыкли за много лет». Разъединение писателя с природой вернуло его в сферу профессиональных интересов, и на первое место встали вопросы собственного творчества, вопросы писательского мастерства. Так началась книга о творчестве. «Я начинаю „Журавлиную родину“, повесть о творчестве Алпатова, которая, быть может, потом будет звеном целой книги о творчестве».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

Еще при Петре Великом был задуман водный путь, соединяющий два моря — Белое и Балтийское. Среди дремучих лесов Карелии царь приказал прорубить просеку и протащить волоком посуху суда. В народе так и осталось с тех пор название — Осударева дорога. Михаил Пришвин видел ее незарастающий след и услышал это название во время своего путешествия по Северу. Но вот наступило новое время. Пришли новые люди и стали рыть по старому следу великий водный путь… В книгу также включено одно из самых поэтичных произведений Михаила Пришвина, его «лебединая песня» — повесть-сказка «Корабельная чаща».
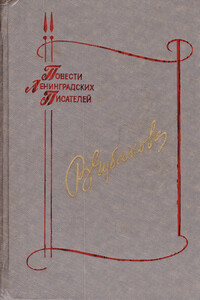
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В третий том вошли произведения, написанные в 1927–1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.Художник П. Пинкисевич.http://ruslit.traumlibrary.net.

Поэт Константин Ваншенкин хорошо знаком читателю. Как прозаик Ваншенкин еще мало известен. «Большие пожары» — его первое крупное прозаическое произведение. В этой книге, как всегда, автор пишет о том, что ему близко и дорого, о тех, с кем он шагал в солдатской шинели по поенным дорогам. Герои книги — бывшие парашютисты-десантники, работающие в тайге на тушении лесных пожаров. И хотя люди эти очень разные и у каждого из них своя судьба, свои воспоминания, свои мечты, свой духовный мир, их объединяет чувство ответственности перед будущим, чувство гражданского и товарищеского долга.

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.В эту книгу вошла проза военных лет, в том числе рассказы «Афродита», «Возвращение», «Взыскание погибших», «Оборона Семидворья», «Одухотворенные люди».К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.http://ruslit.traumlibrary.net.

Лев Аркадьевич Экономов родился в 1925 году. Рос и учился в Ярославле.В 1942 году ушел добровольцем в Советскую Армию, участвовал в Отечественной войне.Был сначала авиационным механиком в штурмовом полку, потом воздушным стрелком.В 1952 году окончил литературный факультет Ярославского педагогического института.После демобилизации в 1950 году начал работать в областных газетах «Северный рабочий», «Юность», а потом в Москве в газете «Советский спорт».Писал очерки, корреспонденции, рассказы. В газете «Советская авиация» была опубликована повесть Л.

… Шофёр рассказывал всякие страшные истории, связанные с гололедицей, и обещал показать место, где утром того дня перевернулась в кювет полуторка. Но оказалось, что тормоза нашей «Победы» работают плохо, и притормозить у места утренней аварии шофёру не удалось.— Ничего, — успокоил он нас, со скоростью в шестьдесят километров выходя на очередной вираж. — Без тормозов в гололедицу даже лучше. Газком оно безопасней работать. От тормозов и все неприятности. Тормознёшь, занесёт и…— Высечь бы тебя, — мечтательно сказал мой попутчик…

Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.http://ruslit.traumlibrary.net.
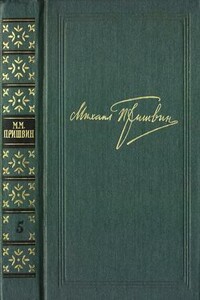
В пятый том вошли произведения тридцатых – начала пятидесятых годов: «Лесная капель», «Повесть нашего времени», «Кладовая солнца» и другие рассказы.http://ruslit.traumlibrary.net.

Четвертый том Собрания сочинений М. М. Пришвина составили произведения, созданные писателем в 1932–1944 гг. повести «Жень-шень», «Серая Сова», «Неодетая весна», рассказы для детей и очерки.http://ruslit.traumlibrary.net.

В седьмой том Собрания сочинений M. M. Пришвина вошли произведения, созданные писателем по материалам его дневников – «Натаска Ромки» (Из дневника охоты 1926–1927) и «Глаза земли».http://ruslit.traumlibrary.net.