Том 3. Тайные милости - [5]
Георгий работал с Калабуховым около двух лет, но уже поговаривали, что он целит на его место, что у него «рука наверху», что она его «тянет со страшной силой», а, как известно, «против лома нет приема».
И никто почему-то не хотел замечать, что Георгий по-настоящему хороший работник: у него ясная голова, он быстро считает в уме и предлагает единственно правильный вариант, он непредвзят в суждениях, держит слово, умеет взять на себя ответственность. Говоря языком футбола, Георгий видел в игре все поле, а не только мяч у себя под ногами. Он работал со вкусом и увлечением. Но все это почему-то никто не брал за причину его стремительного продвижения вверх по служебной лестнице. Наверное, так было удобней людям – такое толкование оправдывало их собственную немочь, разгильдяйство, лень, равнодушие к делу. Однако нельзя сказать, что все были слепы или предвзяты по отношению к Георгию, – некоторые видели в нем незаурядного работника, лидера. И главное – понимал и ценил это Калабухов.
В приемной уже поджидал Георгия дед Микроб – сидел на стуле перед самой его дверью.
– Что он вам, обязан, что ли? – сурово спрашивала деда секретарша.
– Как вы глупо говорите, вы бы лучше молчали на вашем месте! – высокомерно отвечал дед.
Как всегда в летнее время, дед Микроб был в полотняной рубашке, подпоясанной наборным кавказским ремешком, в полотняной фуражке с высокой тульей, в чесучовых штанах и в растоптанных коричневых штиблетах на босу ногу. Голые щиколотки деда отсвечивали слюдяной, ломкой кожею. Дед Микроб получил свое прозвище за навязчивую идею не подхватить микробов и не заразиться. В потертом кожаном портфелике, который он держал сейчас на своих острых коленях, всегда лежала стопка аккуратно нарезанной газеты. Всякий раз, прежде чем взяться за что-нибудь рукой, дед Микроб вытаскивал из портфелика очередной кусочек газеты и брался этим кусочком, а потом выбрасывал его.
Георгий знал деда еще со времени работы в молодежной газете. Фотокорреспондент газеты Лева приходился деду племянником. И в ту пору дед регулярно приходил к ним в газету и царапался в Левину дверь, требовал его из красного закутка фотолаборатории на божий свет, к ответственности, – вымогал у него полтинник. «Левик, – царапался дед в фанерную дверь, – Левик, у тебя что в уме, я уже не имею денег на витамины!»
В позапрошлом году Левик погиб в автомобильной катастрофе, и дед Микроб стал ходить за «витаминными» деньгами непосредственно к городским властям. Еще в первый свой приход сюда он заявил, что «видел» залп «Авроры». Именно «видел», а не слышал, из чего, по мнению деда, само собой вытекало, что власти должны подкармливать его до гробовой доски. У Левика он брал полтинник, а теперь, видимо, учитывая девальвацию или из уважения к дающим, повысил ставку до рубля. И вот так каждый день – то Калабухов, то Георгий давали ему по очереди «витаминный рубль». Дед Микроб стал у них чем-то вроде дополнительного налога, не предусмотренного в бухгалтерских графах.
Георгий покорно вынул рубль. Дед взял его заранее приготовленным куском газеты, сунул в портфелик, а бумажку выбросил в урну. Надев фуражку, дед Микроб победно взглянул на секретаршу, крутнул пальцем у седого виска – дескать, не все у тебя дома, – вынул из портфелика новую бумажку, взялся ею за ручку двери и торжественно удалился.
Едва Георгий вошел в кабинет, постучался посыльный. Вынул из тонкой кожаной папки и положил на стол перед Георгием сводку чрезвычайных происшествий за минувшую ночь.
По чину Георгию не полагалось этой сводки, но шеф сделал для него исключение, мотивируя это тем, что часто бывает болен, а нужно принимать срочные решения безотлагательно. Пока Георгий знакомился со сводкой, посыльный скромно ждал, отойдя к высокому, чисто вымытому окну, смотрел, как на улице мальчишки сшибают камнями кошку, залезшую высоко на дерево.
Сводка была рядовая.
Убийство из ревности.
Два отравления: одно пищевое – пирожками горпищеторга, второе – умышленное, уксусной эссенцией. Оба исхода, естественно, смертельные, о других бы не докладывали.
Самовозгорание электрической сети на ткацкой фабрике – пожар удалось ликвидировать без жертв и большого материального ущерба.
А вот смешное: с торговой базы угнали машину водки, по документам номер машины оказался номером молоковоза этой же базы, что стоял там же, во дворе, безвыездно двое суток. «Молодцы ребятки, – подумал Георгий, усмехаясь, – наглость хода великолепная!» Ему нравилось это выражение – «наглость хода». Он услышал его однажды по радио, в интервью одного велосипедиста. Велосипедиста спросили: «Почему ты обогнал всех?» А он ответил: «В мою силу было человек десять, но у них не было наглости хода, а у меня была». Кажется, гонка шла по улицам Мадрида.
Вернув сводку посыльному и расписавшись в ознакомлении, Георгий сел было за свой стол, но тут же решил, что следует заглянуть к шефу.
Когда Георгий вошел, Калабухов пил воду из тонкого стакана, крепко держа его отечной рукой, так крепко, что подушечки пальцев расплющились на стакане и, переломленные водой, показались зоркому Георгию огромными и нездорово белыми. За день шеф выпивал два графина воды, жажда мучила его постоянно, как и всех диабетиков. А временами на него нападал волчий голод, и тогда он через каждые полтора часа запирался у себя в задней, «хитрой», комнатке и жадно ел принесенное из дому. Шеф не выставлял свой недуг напоказ и не любил говорить на эту тему. Мало кто знал и о том, что шеф самолично «колется». Георгий знал. В самом начале своей работы у шефа он зашел однажды к нему в кабинет и, не найдя его там, заглянул в приоткрытую дверь «хитрой» комнатки. Шеф стоял со спущенными штанами и делал себе укол в бедро. Георгий хотел отойти неслышно по толстому ковру, но шеф заметил его в зеркале, заметил, но тоже не подал виду, оценив тактичность Георгия.
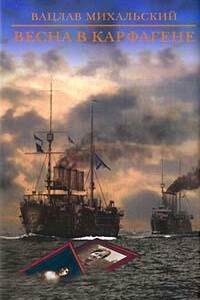
Впервые в русской литературе па страницах романа-эпопеи Вацлава Михальского «Весна и Карфагене» встретились Москва и Карфаген – Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота. То, что происходит с матерью главных героинь, графиней, ставшей и новой жизни уборщицей, не менее трагично по своей силе и контрастности, чем судьба ее дочерей. В романе «Весна в Карфагене» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века.В свое время Валентин Катаев писал: «Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Храм Согласия, вероятно, возвышался на одном из холмов Карфагена, рядом с Храмом Эшмуна. Мы только начинаем постигать феномен Карфагена, чьи республиканские институты, экономические концепции и желание мира кажутся сегодня поразительно современными.Мадлен Ур-Мьедан,главный хранитель музеев Франции. 1Четвертая книга эпопеи "Весна в Карфагене". Журнальный вариант. Книга печаталась в журнале "Октябрь".
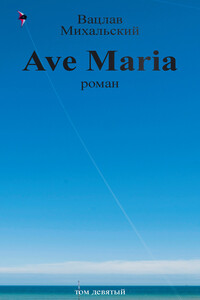
Роман «Ave Maria» заключает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах дочерей адмирала Российского Императорского флота Марии и Александры, начатый романом «Весна в Карфагене», за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года был удостоен Государственной премии России.Место действия цикла романов («Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria») – Россия, СССР, Тунис, Франция, Чехия, Португалия.Время действия – XX век.
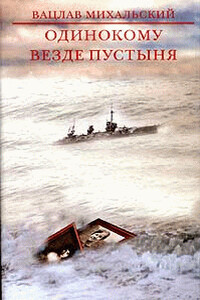
Роман `Одинокому везде пустыня` продолжает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах двух сестер - Марии и Александры, начатый романом `Весна в Карфагене`, за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года удостоен Государственной премии России. Впервые в русской литературе на страницах романа Вацлава Михальского `Весна в Карфагене` встретились Москва и Карфаген - Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа, дочерей адмирала Российского Императорского флота.
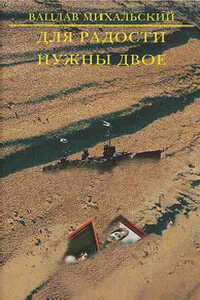
Роман "Для радости нужны двое" продолжает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах двух сестер — Марии и Александры, начатый романами "Весна в Карфагене", за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года удостоен Государственной премии России, и "Одинокому везде пустыня".В романе "Для радости нужны двое" читатель вновь встречается с Марией и Александрой, но уже совсем в другом времени — на пороге и за порогом Второй мировой войны. В свое время Валентин Катаев писал: "Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
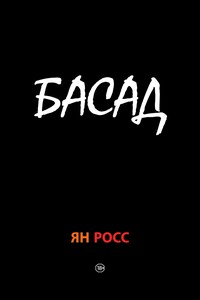
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.
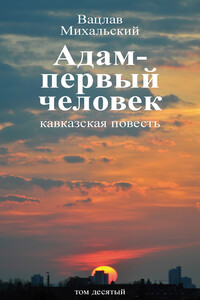
В десятом томе собрания сочинений Вацлава Михальского публикуются: кавказская повесть «Адам – первый человек», которую писатель посвятил памяти своего деда Адама Сигизмундовича Михальского; первая книга рассказов (1956–1961), увидевшая свет в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве; отдельные рассказы и статьи, написанные автором в разное время, которые он счел важным собрать воедино в данном издании. Том снабжен примечаниями и алфавитным указателем всех произведений, составивших настоящее собрание сочинений.
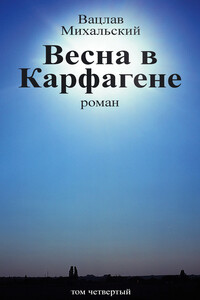
Впервые в русской литературе на страницах романа-эпопеи Вацлава Михальского «Весна в Карфагене» встретились Москва и Карфаген – Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота. То, что происходит с матерью главных героинь, графиней, ставшей в новой жизни уборщицей, не менее трагично по своей силе и контрастности, чем судьба ее дочерей. В романе «Весна в Карфагене» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий ХХ века.
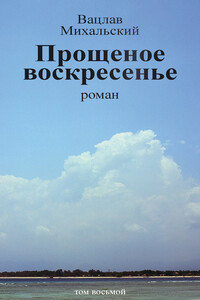
На страницах романа Вацлава Михальского «Прощеное воскресенье» (ранее вышли – «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия») продолжается повествование о судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота, в которых соединились пути России и Туниса, русских, арабов, французов. В романе «Прощеное воскресенье» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века.
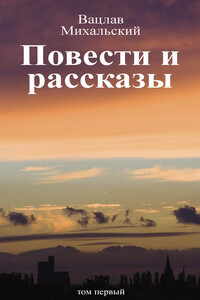
Собрание сочинений Вацлава Михальского в 10 томах составили известные широкому кругу читателей и кинозрителей романы «17 левых сапог», «Тайные милости», повести «Катенька», «Баллада о старом оружии», а также другие повести и рассказы, прошедшие испытание временем.Значительную часть собрания сочинений занимает цикл из шести романов о дочерях адмирала Российского императорского флота Марии и Александре Мерзловских, цикл романов, сложившийся в эпопею «Весна в Карфагене», охватывающую весь XX в., жизнь в старой и новой России, в СССР, в русской диаспоре на Ближнем Востоке, в Европе и США.В первый том собрания сочинений вошли рассказы и повести, известные читателям по публикациям в журналах «Дружба народов», «Октябрь», а также «Избранному» Вацлава Михальского (М.: Советский писатель, 1986)