Том 3. Тайные милости - [3]
А Надя как была инструктором, так и осталась. Только когда вышла из комсомольского возраста, ее перевели инструктором в областной совет профсоюзов. Наверное, так сложилось потому, что свою должность инструктора она всегда понимала в буквальном смысле. Наденька, а теперь Надежда Михайловна, инструктировала всех и вся: дома, на улице, на работе. У себя на работе Надежда Михайловна сидела, говорила и двигалась с таким значительным выражением подсохшего и увядающего лица, с таким тяжелым укором в каждом жесте, в каждой интонации, вздохе, что ее сослуживцы, в том числе и начальники, ощущали этот укор точно так, как капуста в бочке ощущает на себе гнет. Они даже киснуть не могли в свое удовольствие.
– Ма, можно я пойду с папой отводить Ляльку? – спросила Ирина.
– А кто подметет пол в коридоре? Ты уже большая девочка, десять лет, а у тебя совершенно не развито чувство долга.
– Ма, ну я потом…
– Нет. Все надо делать вовремя.
– Передай водителю, что я пойду пешком, и пусть не заезжает за мной к бабе Маше, а едет прямо на работу, – сказал Георгий жене, выходя с Лялькой на руках из дверей квартиры.
Нянька жила недалеко от их дома, примерно в полукилометре, в переулках старого, еще глинобитного города, во дворе на двенадцать хозяев, где лачуги стояли стеной к стене. Баба Маша вырастила Ирину, а теперь растила Ляльку. Она воспитывала детей до трех лет, пока их не отдавали в садик, – вот скоро и Лялька уйдет от нее к коллективной жизни. Раньше баба Маша работала мастером на мебельной фабрике, что была через дорогу от ее жилища, а когда вышла на пенсию, стала нянчить чужих детей – своих у нее с мужем не было. В мазанке бабы Маши стояла прямо-таки непостижимая чистота – можно было на спор вытереть пол белым носовым платком, и платок бы остался чистым. Летом окошки в ее лачуге всегда были занавешены темным, и от этого в комнате царила глубокая, веселящая душу тень – особенно ценная оттого, что на улице с утра до вечера жарило солнце и частенько дул горячий, наполненный песком, словно густой, южный ветер «Магомет».
Муж бабы Маши Михаил Иванович – баба Миша, как звала его Лялька, – работал бригадиром грузчиков на холодильнике. Из всех знакомых Георгия это был самый рослый, самый сильный физически и, как казалось Георгию, самый чистый душою человек. Росту в бабе Мише было два метра два сантиметра, он весил сто сорок килограммов, мог выпить за вечер пять бутылок водки и остаться в своем уме, а ел на удивление мало, как ребенок. В субботу баба Миша сам нянчил Ляльку, а баба Маша ходила по делам – в магазин, на базар или еще куда. Лялька, как и когда-то Ирина, любила его беззаветно, при виде бабы Миши она готова была бросить всех – мать, отца, бабу Машу, мать Георгия – бабу Аню, Ирину. В субботу он обычно лежал на полу, занимая едва ли не всю свободную площадь комнатки, а Лялька лазила по нему, как по горе, – это могло продолжаться, к обоюдному их удовольствию, часами. А то он сажал Ляльку к себе на ладонь и делал ей «козу», и оба хохотали и радовались жизни с одинаковым упоением.
– А я вышла вас встречать, – щурясь от солнца, сказала баба Маша, когда они подошли к мазанкам. – Где, думаю, моя Лялька!
– Вот она! – радостно крикнула Лялька и подняла ручки вверх, призывая бабу Машу взять ее к себе.
– А дед все ждет тебя, ждет… Когда же ты придешь? – принимая Ляльку на руки, с укоризной глянула она в глаза Георгию своими глубоко запавшими серыми, видно, очень красивыми в молодости глазами.
– Зайду как-нибудь. Обязательно. Я помню, что обещал, но так получилось…
Недавно у Михаила Ивановича был день рождения. Георгий обещал прийти поздравить его, как приходил, бывало, и раньше, еще с тех пор, когда они нянчили Ирину, но не пришел. Только жена передала их общий подарок – огромную синюю рубаху с воротом пятьдесят шестого размера: шея у Михаила Ивановича была, как у Ильи Муромца. Надежду Михайловну баба Миша боялся, потому что слышал, будто она считает его алкоголиком. А какой же он алкоголик, если выпивает всего два раза в месяц – с аванса и с получки? Это ведь дело законное. Перед Надеждой Михайловной баба Миша робел, не мог и слова вымолвить, а Георгия любил всей душой, поэтому и звал на свой праздник его одного – для компании, для дружеской беседы. Хотя Михаил Иванович и не мог связать вместе больше десятка слов, беседы им всегда удавались. Когда они беседовали с Георгием, всегда было ясно, кто что сказал и почему. Между ними не возникало никаких недомолвок, фальши, затаенных обид – все было чисто, как на ладони.
– В ближайшее время обязательно зайду, – твердо сказал Георгий, – так и передайте Михаилу Ивановичу. Обязательно.
– Ладно, – кивнула баба Маша, не очень уверенная в том, что Георгий сдержит свое слово.
Тут и подкатила к ним белая «Волга».
– Садитесь, Георгий Иванович, – открывая дверцу, улыбнулся шофер Искандер.
«Все-таки приехал, – подумал Георгий с неудовольствием, – до чего ты мне надоел своей услужливостью!»
– Здравствуй. – Георгий сел в машину, и они поехали по утренней улице к центру города.
– Георгий Иванович, моя жена видела вас по телевизору, – жуликовато улыбаясь и наклоняя над рулем молодую плешивую голову, чтобы видеть глаза начальника, сказал Искандер. – Очень вы ей понравились. Говорит: «Какой Георгий Иванович красивый мужчина!»
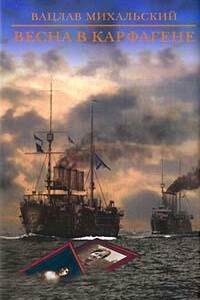
Впервые в русской литературе па страницах романа-эпопеи Вацлава Михальского «Весна и Карфагене» встретились Москва и Карфаген – Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота. То, что происходит с матерью главных героинь, графиней, ставшей и новой жизни уборщицей, не менее трагично по своей силе и контрастности, чем судьба ее дочерей. В романе «Весна в Карфагене» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века.В свое время Валентин Катаев писал: «Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Храм Согласия, вероятно, возвышался на одном из холмов Карфагена, рядом с Храмом Эшмуна. Мы только начинаем постигать феномен Карфагена, чьи республиканские институты, экономические концепции и желание мира кажутся сегодня поразительно современными.Мадлен Ур-Мьедан,главный хранитель музеев Франции. 1Четвертая книга эпопеи "Весна в Карфагене". Журнальный вариант. Книга печаталась в журнале "Октябрь".
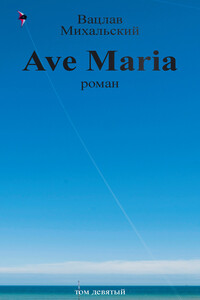
Роман «Ave Maria» заключает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах дочерей адмирала Российского Императорского флота Марии и Александры, начатый романом «Весна в Карфагене», за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года был удостоен Государственной премии России.Место действия цикла романов («Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria») – Россия, СССР, Тунис, Франция, Чехия, Португалия.Время действия – XX век.
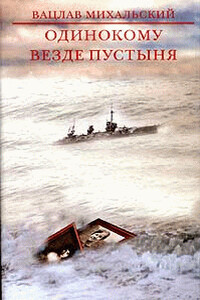
Роман `Одинокому везде пустыня` продолжает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах двух сестер - Марии и Александры, начатый романом `Весна в Карфагене`, за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года удостоен Государственной премии России. Впервые в русской литературе на страницах романа Вацлава Михальского `Весна в Карфагене` встретились Москва и Карфаген - Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа, дочерей адмирала Российского Императорского флота.
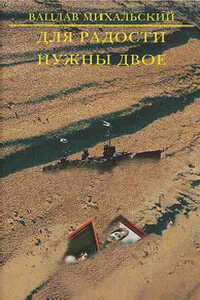
Роман "Для радости нужны двое" продолжает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах двух сестер — Марии и Александры, начатый романами "Весна в Карфагене", за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года удостоен Государственной премии России, и "Одинокому везде пустыня".В романе "Для радости нужны двое" читатель вновь встречается с Марией и Александрой, но уже совсем в другом времени — на пороге и за порогом Второй мировой войны. В свое время Валентин Катаев писал: "Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
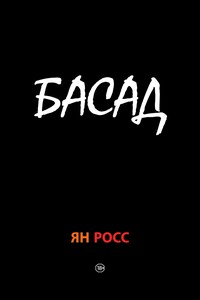
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.
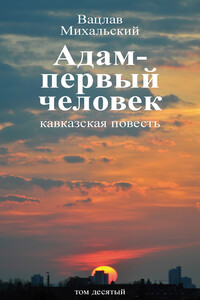
В десятом томе собрания сочинений Вацлава Михальского публикуются: кавказская повесть «Адам – первый человек», которую писатель посвятил памяти своего деда Адама Сигизмундовича Михальского; первая книга рассказов (1956–1961), увидевшая свет в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве; отдельные рассказы и статьи, написанные автором в разное время, которые он счел важным собрать воедино в данном издании. Том снабжен примечаниями и алфавитным указателем всех произведений, составивших настоящее собрание сочинений.
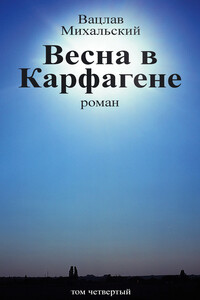
Впервые в русской литературе на страницах романа-эпопеи Вацлава Михальского «Весна в Карфагене» встретились Москва и Карфаген – Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота. То, что происходит с матерью главных героинь, графиней, ставшей в новой жизни уборщицей, не менее трагично по своей силе и контрастности, чем судьба ее дочерей. В романе «Весна в Карфагене» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий ХХ века.
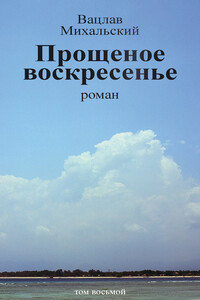
На страницах романа Вацлава Михальского «Прощеное воскресенье» (ранее вышли – «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия») продолжается повествование о судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота, в которых соединились пути России и Туниса, русских, арабов, французов. В романе «Прощеное воскресенье» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века.
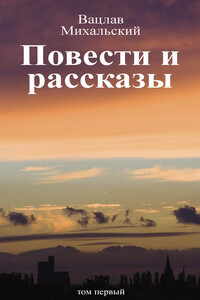
Собрание сочинений Вацлава Михальского в 10 томах составили известные широкому кругу читателей и кинозрителей романы «17 левых сапог», «Тайные милости», повести «Катенька», «Баллада о старом оружии», а также другие повести и рассказы, прошедшие испытание временем.Значительную часть собрания сочинений занимает цикл из шести романов о дочерях адмирала Российского императорского флота Марии и Александре Мерзловских, цикл романов, сложившийся в эпопею «Весна в Карфагене», охватывающую весь XX в., жизнь в старой и новой России, в СССР, в русской диаспоре на Ближнем Востоке, в Европе и США.В первый том собрания сочинений вошли рассказы и повести, известные читателям по публикациям в журналах «Дружба народов», «Октябрь», а также «Избранному» Вацлава Михальского (М.: Советский писатель, 1986)