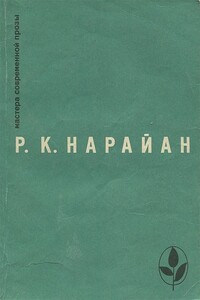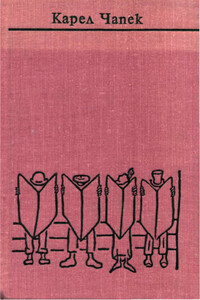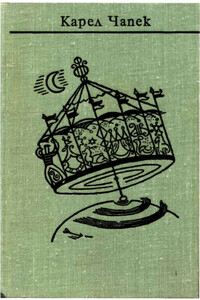«Как это возможно?» — думает Фолтын, у которого сдавило сердце и горло, а пол сцены предательски и озорно убегает из-под ног. Что случилось с его и их глазами, которые вдруг увидели все так, как оно есть? Какая это злая, жестокая и враждебная толпа! Ее крики и хлопки еще туже завинчивают тиски, сдавившие ему горло и сердце. Ему хочется плакать, как маленькому, он опирается на плечо фаготиста и грязным платком вытирает пот и все думает, кого попросить о милости, чтобы можно было наконец перестать выходить и кланяться этой подлой и злодейской шайке в зрительном зале.
Фаготист терпеливо поддерживает потное и обмякшее тело, и у Бэды Фольтэна есть несколько секунд, чтобы обратиться к господу богу. Всю жизнь я бился и мучился, пожирал и покупал, чтобы дождаться этого дня! Всю жизнь я служил чему-то, что считал своим призванием! Он думает, что втягивает носом, а сам громко плачет; сердце, раздавленная собачонка, корчится от страшной боли. Господи, как это возможно, ведь на это ушла вся моя жизнь, все это жалкое ничтожное время, отмеренное мне тобой!
В тот вечер «Юдифь» так и не была исполнена до конца, потому что Бэда Фольтэн сошел с ума, чего, конечно, вовсе не желала публика, которая давно считала его ненормальным. Беднягу увезли в Богницы, как он был, в чужом фраке, и директор психиатрической больницы, который числился у автора предпоследним в списке свидетелей, должен был дать показания о его конце. Я могу сказать лишь то, что знаю от автора и из рассказа пани Фолтыновой: что через два дня он там умер.
— У него будут прекрасные похороны, — звучал голос Чапека в последних сумерках нашей совместной жизни. — Многие из его знакомых в порыве трогательного сочувствия придут с ним проститься. Знаешь, в конечном счете жизнь должна иметь и своих несчастных безумцев, а смерть, пожалуй, последнее из божественных установлений, к которому люди еще питают хоть каплю почтения. Пани Фолтынова все-таки добрая душа, славные устроила похороны, достойные доброго имени ее семейства. И во время церемонии в крематории один знаменитый профессор из консерваторских сыграл на органе Генделево «Largo», а в конце наш лучший струпный квартет — Бетховена. Не всякому так везет, правда?
Разумеется, я спрошу у них, как это вышло и почему, — но я заранее знаю, что они мне ответят: он хотя и не был артист, но все-таки сгорел из-за искусства. Так и кое-кто из нас берет себе задачи не по плечу, а из этого всегда получается трагедия. А кроме того, наверняка прибавит кто-нибудь из них, вы знаете, с этим Фолтыном странное дело: плагиатор, убожество и фигляр, а несколько истинных крупиц в нем все-таки было. Правда, для всей жизни этого мало, очень мало, сударь, но на Страшном суде не должна затеряться ни одна крупица золота. А Фолтын оставил нам целых две в своей убогой лоскутной «Юдифи». Есть там одно место с очень забавным текстом «О, горе, горе», а потом этот мотив девы — музыка чистая и прозрачная, как вода в священном источнике. Мы долго размышляли над этим, сударь, бог знает, откуда это у него взялось!
— Так это для него сочинил тот Fatty, которого ты уморил болезнью Паркинсона, помнишь?
— Да, он. Вот видишь, когда-то никто не хотел признать, что у этого мальчика есть талант, — но вот это осталось с нами, и это главное. Хотя б за это похоронили безумца Фолтына как настоящего артиста…