Том 3. От конца правления Мстислава Торопецкого до княжения Димитрия Иоанновича Донского, 1228-1389 гг. - [4]
Князья вступали в брак преимущественно в своем роде, в седьмой и даже шестой степени родства, в шестой и пятой степени свойства; вступали в родственные союзы с соседними владетельными домами: скандинавскими, англосаксонским, польским, чешским, венгерским, византийскими, очень часто с ханами половецкими; иногда наши князья брали жен из прикавказского народа ясов; наконец, женились на дочерях бояр (новгородских) и даже выдавали дочерей своих за бояр. Мы видели, что у князей Святополка Изяславича и Ярослава галицкого были незаконные сыновья, которых отцы ничем не хотели отличать от законных. Если князья в первый раз женились рано, то во второй брак вступали иногда очень поздно: так, Всеволод III женился вторично слишком 60 лет. Встречаем известия о разводах князей по случаю болезни жены и желания постричься в монахини.
О занятиях взрослого князя, сидевшего на столе, можно получить понятие из слов Мономаха к сыновьям: «Не будьте ленивы ни на что доброе: прежде всего не ленитесь ходить в церковь; да не застанет вас солнце на постели: так делывал мой отец и все добрые мужи. Возвратясь из церкви, надобно садиться думать с дружиною, или людей оправливать (творить суд и расправу), или на охоту ехать, или так поехать куда, или спать лечь: для спанья время от бога присуждено – полдень». Охота составляла любимое препровождение времени князей; по словам Мономаха, он вязал руками в пущах диких лошадей, охотился на тура, на оленя, на лося, на вепря, на медведя, на волка (лютого зверя); охотились и на зайцев, ловили их тенетами; Мономах говорит, что он сам держал весь наряд в ловчих, сам заботился о соколах и ястребах. Князья отправлялись на охоту на долгое время, забирали с собою жен и дружину; охотились в лодках по Днепру, из Киева ходили вниз по этой реке до устья Тясмина (до границ Киевской и Херсонской губерний), Игорь Святославич в плену у половцев утешался ястребиною охотою; в Никоновском списке о Всеволоде новгородском говорится, что он любил играть и утешаться, а людей не управлял, собрал ястребов и собак, а людей не судил.
Из летописных известий видно, что князья три раза в день садились за стол: завтракали, обедали, ужинали; час завтрака, обеда и ужина определить нельзя, можно видеть только, что обедали прежде полуден; это будет понятно, если вспомним, что вставали до свету и скоро после того завтракали: при описании Липецкой битвы говорится, что князь Юрий прибежал во Владимир о полудни, а битва началась в обеднюю пору (в обед год); в полдень уже ложились спать. Князья по-прежнему любили пировать с дружиною. Кроме дружины, они угощали иногда священников: так, летописец говорит, что князь Борис Юрьевич угощал в Белгороде на сеннице дружину и священников; Ростислав Мстиславич в великий пост, каждую субботу и воскресенье сажал за обедом у себя 12 чернецов с тринадцатым игуменом, а в Лазареву субботу сзывал на обед всех монахов киевских из Печерского и других монастырей; в обыкновенное время угощал печерскую братию по постным дням, середам и пятницам; в летописи называется это утешением. Большие пиры задавали князья при особенных торжественных случаях: на крестинах, постригах, имянинах, свадьбах, по случаю приезда других князей, причем гость и хозяин взаимно угощали и дарили друг друга по случаю восшествия на престол; так, в Никоновском списке читаем, что Всеволод Ольгович, седши в Киеве, учредил светлый пир, поставил по улицам вино, мед, перевару, всякое кушанье и овощи. Мы видели, что князья иногда сзывали к себе на обед всех граждан, и граждане давали обеды князьям; князья пировали также у частных людей: так, Юрий Долгорукий перед смертию пил у Осьменика Петрила. Большие пиры задавали князья по случаю духовных торжеств, освящения церквей: так, Святослав Всеволодович по освящении Васильевской церкви в Киеве на Великом дворе созвал на пир духовный митрополита, епископов, игуменов, весь святительский чин, киевлян. На пирах у князей обыкновенно играла музыка. Хоронили князей немедленно после смерти, если не было никаких особенных препятствий; так, например, Юрий Долгорукий умер 15 мая, в среду на ночь, а похоронили его на другой день, в четверг. Родственники, бояре, слуги умершего князя надевали черное платье и черные шапки; когда везли тело князя, то перед гробом вели коня и несли стяг (знамя); у гроба становили копье; после похорон князя родственники его обыкновенно раздавали богатую милостыню духовенству и нищим: так, Ростислав Мстиславич по смерти дяди Вячеслава роздал все его движимое имение, себе оставил только один крест на благословенье. Ярослав галицкий сам перед смертью роздал имение по монастырям и нищим. Родственники, бояре, слуги и народ плакались над гробом князя, причитали похвалы умершему; похвала доброму князю в устах летописца состояла в следующем: он был храбр на рати, почитал, снабжал, утешал духовенство, раздавал щедрую милостыню бедным, любил и уважал дружину, имения не щадил для нее; особенною заслугою выставляется также верность клятве, соблюдение телесной чистоты, правосудие, строгость к злым людям, бесстрашие пред сильными, обижающими слабых. Об одежде князей можем иметь понятие из картины, приложенной к известному Святославову Сборнику: здесь Святослав и сыновья его, Глеб и Ярослав, представлены в кафтанах немного ниже колена; кафтан у Святослава зеленый и сверх него корзно синее с красным подбоем, застегнутое на правом плече красною запоною с золотыми отводами; у сыновей кафтаны малинового цвета и золотые пояса с четырьмя концами. Воротники, рукава у молодых князей, подол у ярославова кафтана и края святославова корзна наведены золотом; подол святославова и глебова кафтанов красный; у маленького Ярослава от шеи до пояса золотая обшивка с тремя поперечными золотыми полосами; сапоги у Святослава зеленые, у Ярослава красные, у обоих востроносые. На молодых князьях высокие синие шапки с красными наушниками и зеленоватым подбоем (если только не принимать этого подбоя за особенную нижнюю шапку); на Святославе шапка не так высокая, желтоватого цвета, с синими наушниками и темно-красною опушкою; на маленьком Ярославе синяя, не очень высокая. Святослав и Роман с усами без бород. На княгине покрывало, завязанное под бородою; верхняя одежда красного цвета с широкими рукавами, с широкою желтою полосою на подоле и с золотым поясом, видны рукава нижней одежды с золотыми поручами; башмаки золотые.
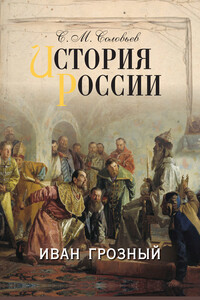
Сергей Михайлович Соловьев – один из самых выдающихся и плодотворных историков дореволюционной России. Его 29-томное исследование «История России с древнейших времен» – это не просто достойный вклад в сокровищницу отечественной и мировой исторической мысли, это практически подвиг ученого, равного которому не было в русской исторической науке ни до Соловьева, ни после. Книга «Иван Грозный» рассказывает о правлении первого русского царя Ивана IV Васильевича. Автор детально рассматривает как внешнюю и внутреннюю политику, так и процесс становления личности самого правителя. Это иллюстрированное издание будет интересно не только историкам, но и широким кругам читателей. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.В книге представлены избранные главы из «Истории России с древнейших времен» Сергея Михайловича Соловьева и «Краткого курса по русской истории» Василия Осиповича Ключевского – трудов замечательных русских историков, ставших культурным явлением, крупным историческим фактом умственной жизни России, в нынешний нелегкий момент нашей истории вновь помогающих нам с позиций прошлого понять и осмыслить настоящее.
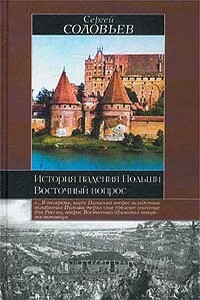
К середине 18 века Речь Посполитая окончательно потеряла свое могущество в Восточной Европе и уже не играла той роли в международных делах региона, как в 17 веке. Ее соседи напротив усилились и стали вмешиваться во внутренние дела Польши, участвуя в выдвижении королей. Власть короля в стране была слабой и ему приходилось учитывать мнение влиятельных аристократов из регионов. В итоге Пруссия, Австрия и Россия совершают раздел Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах. Русский историк Сергей Соловьев детально описывает причины и ход этих разделов.
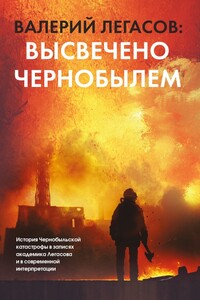
Чернобыльская катастрофа произошла более 30 лет назад, но не утихают споры о её причинах, последствиях и об организации работ по ликвидации этих последствий. Чернобыль выявил множество проблем, выходящих далеко за рамки чернобыльской темы: этических, экологических, политических. Советская система в целом и даже сам технический прогресс оказались в сознании многих скомпрометированы этой аварией. Чтобы ответить на возникающие в связи с Чернобылем вопросы, необходимо знание – что на самом деле произошло 26 апреля 1986 года.В основе этой книги лежат уникальные материалы: интервью, статьи и воспоминания академика Валерия Легасова, одного из руководителей ликвидации последствий Чернобыльской аварии, который первым в СССР и в мире в целом проанализировал последствия катастрофы и первым подробно рассказал о них.
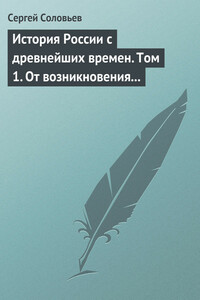
Эта книга включает в себя первый том главного труда жизни С. М. Соловьева – «История России с древнейших времен». Первый том охватывает события с древнейших времен до конца правления киевского великого князя Ярослава Владимировича Мудрого.

Книга Андре Гийу, историка школы «Анналов», всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии — теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и реальная жизнь людей в их повседневном существовании, со своими нуждами, соответствующими положению в обществе, формы власти и формы мышления, государственные учреждения и социальные структуры, экономика и разнообразные выражения культуры. Византийская церковь, с ее великолепной архитектурой, изысканной красотой внутреннего убранства, призванного вызывать трепет как осязаемый признак потустороннего мира, — объект особого внимания автора.Книга предназначена как для специалистов — преподавателей и студентов, так и для всех, кто увлекается историей, и историей средневекового мира в частности.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.
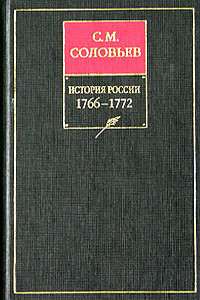
Двадцать седьмой и двадцать восьмой тома сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». Двадцать седьмой том охватывает период царствования Екатерины II в 1766 и первой половине 1768 года; двадцать восьмой – освещает события 1768–1772 годов.
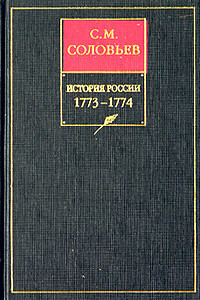
Последний, двадцать девятый том сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». В двадцать девятом томе, оставшемся незаконченным, продолжено начатое в предыдущих томах повествование о царствовании Екатерины II, освещены события внутренней и внешней политики 1768–1774 гг.
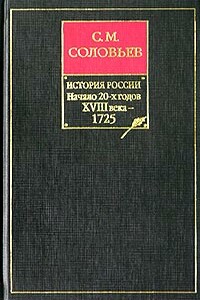
Семнадцатый и восемнадцатый тома сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». В них продолжено начатое в предыдущих томах повествование о царствовании Петра I, освещены события внешней политики России, изменения внутри страны, годы, последовавшие за смертью императора.
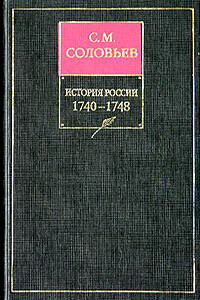
Двадцать первый и двадцать второй тома сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» освещают события со второй половины 1740 по 1748 г. периода царствования императрицы Елизаветы Петровны.