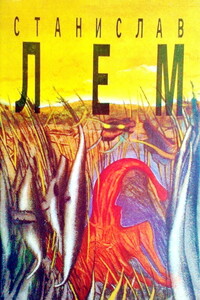Стругацкий: При всем моем уважении к Александру Петровичу я решительно протестую. Альтова можно любить и не любить, я сам его не очень люблю, но подумайте, что вы говорите. Альтов — фашист! Это же ярлык, это же стенографируется, мы не в пивной сидим, это черт знает что, это просто непорядочно! (Это я помню, но я еще что-то нес, минут на пять.)
Секунда мертвой тишины. Затем железный голос Толи Днепрова: Я со своей стороны должен заявить, что не слыхал, чтобы Альтов обвинял меня в пристрастии к теме борьбы двух миров. Он обвинял меня в том, что действующие лица у меня не люди, а идеи и машины. Ким: И не абстракционист он никакой. Наоборот, когда был у меня и увидел картину такого-то, очень ее ругал.
Затем все зашумели, заговорили, Казанцев начал объяснять, что он хотел сказать, а я трясся от злости и больше ничего не слыхал. И когда все закончилось, я встал, выругался (матом, кажется) и сказал Голубеву: пойдем отсюда, здесь ярлыки навешивают. Громко сказал. Мы пошли вниз, в кабак, и там выдули бутылку настойки какой-то».
Вот теперь уже, кажется, всем без исключения сестрам было, наконец-то, выдано по серьгам.
Впрочем, никого не посадили. Никого даже не исключили из Союза Писателей. Более того, посреди гнойного потока разрешили даже построить две или три статьи с осторожными возражениями и изложением своей (а не партийной) точки зрения. Возражения эти тотчас же были затоплены и затоптаны, но факт их появления уже означал, что намерения бить насмерть у начальства нет.
И вот уже сам величайший советский драматург Анатолий Софронов (на коем пробы, извините, негде поставить) высокомерно успокаивает перепугавшихся: «Сейчас кое-кто высказывает опасения: как бы не было перегибов, как бы не «зажали» кого-то и т. д. Да не «зажмут», не надо бояться. У нас Советская власть добрая, партия у нас добрая, человечная. Работать надо честно, добросовестно, тогда будет все в порядке».
Но нам было не столько страшно, сколько тошно. Нам было мерзко и гадко, как от тухлятины. Никто не понимал толком, чем вызван был этот стремительный возврат на гноище. То ли власть отыгрывалась на своих за болезненный щелчок по носу, полученный совсем недавно во время Карибского кризиса. То ли положение в сельском хозяйстве еще более ухудшилось, и уже предсказывались на ближайшее будущее перебои с хлебом (каковые и произошли в 1963-м). То ли просто пришло время показать возомнившей о себе «интеллигузии», кто в этом доме хозяин и с кем он — не с Эренбургами вашими, не с Эрнстами вашими Неизвестными, не с подозрительными вашими Некрасовыми, а — со старой доброй гвардией, многажды проверенной, давным-давно купленной, запуганной и надежной.
Можно было выбирать любую из этих версий или все их вместе. Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них коммунизм — это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства.
Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами «веселая, мушкетерская» история стала смотреться совсем в новом свете, и БНу не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АНа в необходимости существенной идейной коррекции «Наблюдателя». Время «легкомысленных вещей», время «шпаг и кардиналов», видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки средневековья.
Из дневника АН:
«…12–16 <апреля 1963> был в Ленинграде. <…> Составили приличный план «Наблюдателя» (бывш. «Седьмое небо»)…»
13.08.63:
«…В июне написано «Трудно быть богом». Сейчас колеблемся, неизвестно, куда девать. В Детгиз не возьмут. М. б. попробовать в «Новый мир»?»
В «Новый мир» давать мы так и не попробовали, но вот в толстый журнал «Москва» — попытались. Безрезультатно. Рукопись была нам оттуда возвращена с рецензией, помнится, снисходительно-отрицательной — «Москва», оказывается, фантастики не печатает.
Вообще, роман вызвал разноречивые отклики у читающей публики. В особенности озадачены были наши редакторы. В этом романе все им было непривычно, и масса пожеланий (вполне дружеских, между прочим, а вовсе не злобно-критических) была высказана. По совету И. А. Ефремова мы переименовали министра охраны короны в дона Рэбу (раньше он у нас был дон Рэбия — анаграмма, слишком уж незамысловатая, по мнению Ивана Антоновича). Более того, нам пришлось основательно поработать над текстом и добавить целую большую сцену, где Арата Горбатый требует у героя молнии и не получает их. Поразительно, что роман этот прошел через все цензурные рогатки без каких-либо особых затруднений. То ли тут сыграл роль либерализм тогдашнего «молодогвардейского» начальства, то ли точные действия замечательного редактора нашего, Белы Григорьевны Клюевой, а может быть, дело было вовсе в том, что шел некий откат после недавней идеологической истерики — враги наши переводили дух и благодушно озирали вновь захваченные ими плацдармы и угодья.