Том 2. Сумерки духа - [12]
– Скажите, – опять резко прервала его Раиса, – вы очень любите Игнатия Самохина?
– Я… люблю, – ответил Ян. – Почему вы меня спрашиваете?
– Потому, что я не понимаю, как можно допускать себя до такого унижения, слушать и терпеть покорно то, что вы терпите от этого человека. Вы говорили, что чувствуете боль оскорбления. Ведь он оскорбляет вас! И вы молчите… Мне стыдно, стыдно… Иль вы его боитесь?
Глаза ее блестели, прекрасное лицо было гневно.
– Я вам скажу сейчас, – проговорил Ян. – Вы не знаете Игнатия. Если я ему не позволю себя оскорблять, ему будет больнее, чем мне, если я позволю. Я знаю, что будет больнее. Я не могу, чтобы он страдал, не могу для себя, для вас…
Раиса вздрогнула, она поняла больше, чем, быть может, понимал сам Ян. Но Ян не заметил и продолжал:
– Вся жизнь его – сплошь – страдание. Я понял это с давних пор. Он везде конца ищет, – добавил Ян, – и мучается, что нет конца.
– Какого конца? Я думала об этом, но скажите вы.
– Все равно какого. В чем-нибудь. Нити тянутся, тянутся, и мы только нити видим, а концы спрятаны… не здесь. Здесь только «больше» и «меньше», а он, Игнатий, хочет увидать большое или малое, – но все. В какую-нибудь сторону дойти. Он так давно этого хочет, что, может быть, и сам почти не сознает, но вся душа у него к этому направлена, и он мучится. Я ему необходим. Он меня оскорбляет и невольно дальше идет, добивает, все к «концу» ведет, все надеется увидеть конец. И пусть надеется. Жаль его! Надо это, то есть, что конца нет – понять и покориться, в иную сторону взглянуть, а он не может… И вы еще сами его оскорбляете!
Раиса сидела, опустив глаза. Лицо ее было серьезно и сосредоточенно.
– Знаете? Я скажу – так и быть… Я сама прежде об этом «конце» думала. Я была еще совсем девочка. И все хотела сделать что-нибудь великое, но такое… беспримерное. А потом вижу, что не могу – и думаю: дай что-нибудь дурное сделаю, но очень, очень дурное, до дна дурное… Ведь все равно, лишь бы до дна?.. У меня была сестренка маленькая, годовалая, любила меня… Я взяла ее на руки, пошла по лестнице, разжала руки – и она упала по ступенькам вниз…
– Господи! – воскликнул Ян вне себя, со слезами в голосе. – Господи, что это? Что вы сделали? Да как вы смели?
Он забылся, схватил Раису за одежду, почти кричал:
– Ребенка! Девочку маленькую! А она, верно, и пошла-то к вам, улыбаясь, верила вам и руками за вас не держалась… Какие бывают у них ручки: круглые, с ямочками, с глубокой складочкой у кисти, точно ниточкой перевязано… Она верила и за то должна головой… головой по ступенькам… Как вы могли из-за лжи, из-за того, что слепы и буйны люди…
– Успокойтесь, пожалуйста, – произнесла Раиса холодно. – Сестра моя не расшиблась, она лет через пять после того умерла от дифтерита. А вот, кстати, мы и приехали. Милости просим.
В тот же вечер Самохин сидел в комнате Яна. Ранний ноябрьский сумрак давно наступил, горела низенькая лампа под зеленым колпаком, в соседней комнате спала бабушка. Ольга ее сама накормила и уложила, как всегда по воскресеньям.
– Что, еще не вернулся Иван Иванович? – спросила она осторожно, просунув голову в дверь.
– Нет.
– Ах, это вы! – протянула Оля, увидев Самохина. Она его не любила.
– Ольга Дмитриевна, зайдите на минутку, – позвал Самохин. – Мне нужно сказать вам два слова.
Девушка неохотно вошла и притворила за собой дверь.
– Присядьте, не дичитесь. Увидите, скажу важное. Вы думаете, почему Ян так долго не возвращается?
– Ума не приложу, – вдруг беспокойно заговорила Ольга. – Прием в больнице кончается в четыре, а теперь седьмой. И не обедал он… Просто не знаю.
– Вы думаете, он у сестры?
– А где же? Сегодня воскресенье.
– Он в больнице и не был. Его при мне посадили и увезли, кое-кто подороже сестры! Я знал, что его нет, я пришел сюда с вами говорить, а не с ним.
Ольга сидела бледная, как смерть, без слов.
– Да вы не пугайтесь, – продолжал Самохин. – Только вам надо знать, что его ждет величайшее горе, если он не станет себя иначе держать, не поймет, где его место. Девушка она бессердечная, злая, к тому же богатая и гордая. Ян для нее – ничто.
– Она его не любит? – шепотом спросила Оля. Самохин засмеялся.
– Любит! Что вы, милая моя! Она и мысленно себя с ним рядом не поставит. Так, не замечая, погубит человека. Пожалуй, – прибавил он жестко, – Ян от простоты своей захочет посвататься…
– Боже мой, – простонала Оля, – что же я могу? Ничего, ничего!
Самохин прищурился и спросил не очень громко, скользящим голосом:
– А вы сами очень Яна любите?
Ольга умолкла, посмотрела несколько мгновений на Самохина изумленными, почти злыми глазами, потом вскочила со стула и бросилась вон.
На лестнице, внизу, перед входом в сад, Самохин столкнулся с Яном. Сад был совсем белый, потому что шел снег и уже не таял. На снегу дрожали неясные отблески фонарей на проспекте.
– Это вы, Игнатий? Вы были у меня? – проговорил Ян поспешно и робко. – Войдемте. Я вам расскажу, Игнатий… Вы не должны на меня сердиться…
– Опомнитесь, сделайте милость, – холодно прервал его Игнатий. – Мне сердиться не за что. Вернуться теперь не имею времени. Прощайте. Два слова только: зачем вы не предупредили меня, что ваша миленькая хозяйка питает к вам чувство нежнее дружбы? Она спросила меня, где вы, и когда я сказал – пришла в такое отчаяние, что мне стало ее жаль. Долго вам, при вашем добродетельном сердце, придется ее утешать.

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Зинаида Николаевна Гиппиус — удивительное и непостижимое явление "Серебряного века". Поэтесса, писательница, драматург и критик (под псевдонимом Антон Крайний), эта поразительная женщина снискала себе славу "Мадонны декаданса".Долгое время произведения З.Гиппиус были практические неизвестны на родине писательницы, которую она покинула в годы гражданской войны.В настоящее издание вошли роман "Чертова кукла", рассказы и новелла, а также подборка стихотворений и ряд литературно-критических статей.
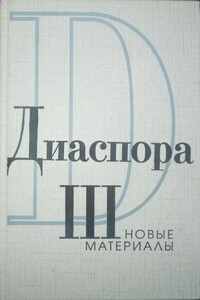
Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции.Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А. Богомолова.Из книги Диаспора: Новые материалы.
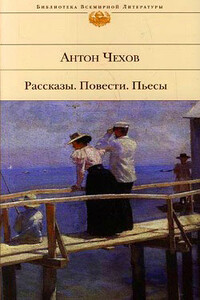
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
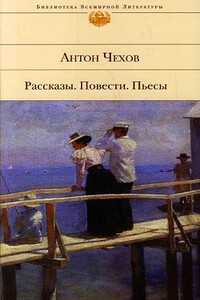
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
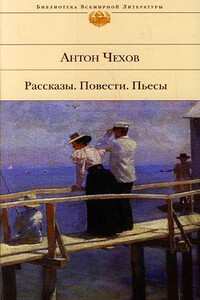
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
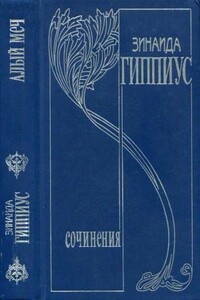
В третьем томе Собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Гиппиус (1869–1945) впервые в полном составе публикуются сборники художественной прозы: «Третья книга рассказов» (1902), «Алый меч» (1906), «Черное по белому» (1908), а также ее «Собрание стихов. Книга вторая. 1903–1909» (1910).http://ruslit.traumlibrary.net.

В четвертом томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее шестой сборник прозы «Лунные муравьи» (1912), рассказы разных лет, не включенные в книги, и драматургические произведения.http://ruslit.traumlibrary.net.

В настоящем томе, продолжающем Собрание сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), публикуется неизданная художественная проза. Читателям впервые представляются не вошедшие в книги Гиппиус повести, рассказы и очерки, опубликованные в журналах, газетах и альманахах в 1893–1916 гг.http://ruslit.traumlibrary.net.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.