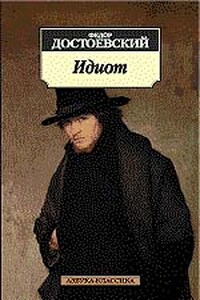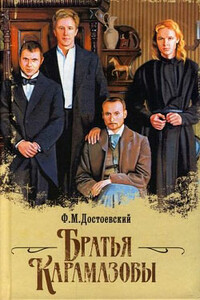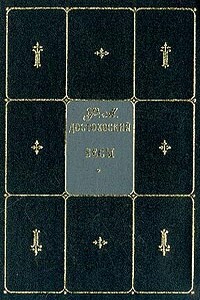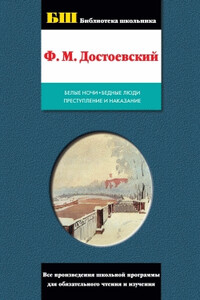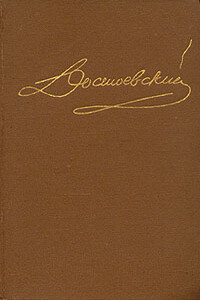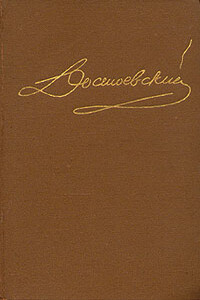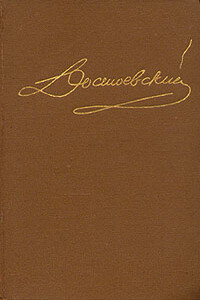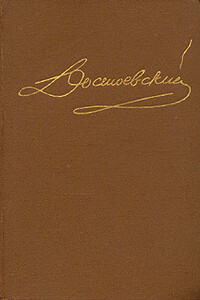Что-то ты делаешь? Что-то ты думал сегодня? Знаешь ли ты об нас? Как сегодня было холодно>*!
Ах, кабы мое письмо поскорее дошло до тебя. Иначе я месяца четыре буду без вести об тебе. Я видел пакеты, в которых ты присылал мне в последние два месяца деньги; адресс был написан твоей рукой, и я радовался, что ты был здоров.
Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait[28]! Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение мое.
Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых; я мало берег себя прежде. Теперь уже лишения мне нипочем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может. Ах! кабы здоровье!
Прощай, прощай, брат! Когда-то я тебе еще напишу! Получишь от меня сколько возможно подробнейший отчет о моем путешествии. Кабы только сохранить здоровье, а там и всё хорошо!
Ну, прощай, прощай, брат! Крепко обнимаю тебя; крепко целую. Помни меня без боли в сердце. Не печалься, пожалуйста, не печалься обо мне! В следующем же письме напишу тебе, каково мне жить. Помни же, что я говорил тебе: рассчитай свою жизнь, не трать ее, устрой свою судьбу, думай о детях. — Ох, когда бы, когда бы тебя увидать! Прощай! Теперь отрываюсь от всего, что было мило; больно покидать его! Больно переломить себя надвое, перервать сердце пополам. Прощай! Прощай! Но я увижу тебя, я уверен, я надеюсь, не изменись, люби меня, не охлаждай свою память, и мысль о любви твоей будет мне лучшею частию жизни. Прощай, еще раз прощай! Все прощайте!
Твой брат Федор Достоевский.
22 декабря 49-го года.
У меня взяли при аресте несколько книг. Из них только две были запрещенные. Не достанешь ли ты для себя остальных? Но вот просьба: из этих книг одна была «Сочинения Валериана Майкова», его критики — экземпляр Евгении Петровны. Она дала мне его как свою драгоценность>*. При аресте[29] я просил жандармского офицера отдать ей эту книгу и дал ему адресс. Не знаю, возвратил ли он ей. Справься об этом! Я не хочу отнять у нее это воспоминание. Прощай, прощай еще раз.
Твой Ф. Достоевский.
Не знаю, пойду ли я по этапу или поеду. Кажется, поеду. Авось-либо!
Еще раз: пожми руку Эмилии Федоровне и целуй деток. Поклонись Краевскому, может быть…
Напиши мне подробнее о твоем аресте, заключении и выходе на свободу.
38. M. M. Достоевскому>*
30 января — 22 февраля 1854. Омск
Наконец-то я, кажется, могу поговорить с тобою попространнее и повернее>*. Но прежде чем напишу строчку, спрошу тебя: скажи ты мне, ради Господа Бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки>*? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положении моем я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу быть им полезным. Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (но это было в болезненные часы, которых у меня было много), и я горько упрекал тебя. Но потом и это проходило; я извинял тебя, старался приискать все оправдания, успокаивался на лучших и ни разу не потерял в тебя веры: я знаю, что ты меня любишь и хорошо обо мне вспоминаешь. Я писал тебе письмо через наш штаб. До тебя оно должно было дойти наверное, я ждал от тебя ответа и не получил>*. Да неужели же тебе запретили? Ведь это разрешено, и здесь все политические получают по нескольку писем в год. Дуров получал несколько раз, и много раз на запросы начальства о письмах разрешение писать их подтверждалось. Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты, по неподвижности своей, не ходил просить полицию или если и ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа, может быть, от такого человека, который и дела-то не знал хорошенько. Ты мне доставил этим много и эгоистического горя: «Вот, — подумал я, — если он и о письме не может выхлопотать, будет же он хлопотать об чем-нибудь важнее для меня!» Пиши и отвечай скорее, а прежде всего пиши официально, не ожидая случая, и пиши подробнее и пространнее. Я теперь от вас как ломоть отрезанный, — и хотел бы прирасти, да не могу. Les absents ont toujours tort[30]. Неужели и между нами это должно случиться? Но не беспокойся, я в тебя верю.
Вот уже неделя, как я вышел из каторги. Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нем никому ни полслова. Впрочем, я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это при первом удобном случае. Впрочем, и в официальном ты должен изложить самым подробным образом всё главное о себе за все эти 4 года. Что же касается до меня, то я бы рад был послать тебе целые томы. Но так как и на это письмо едва имею время, то и напишу главнейшее.