Точка отсчёта - [6]
Встречи наши, увы, уже не могли быть такими регулярными, как полгода назад. Все чаще, позвонив Константину Михайловичу в урочную минуту, я слышал в трубке смущенное покашливание: «Медицина свирепствует». Да и ненароком заглянув к нему в палату, как правило, заставал врачей и сестер — то делали укол, то брали анализ, то подключали капельницу, причудливое сооружение из стеклянных и резиновых трубок.
Если же медицинская аппаратура отдыхала, палата становилась рабочим кабинетом: загорался зеленый глаз диктофона («Заведите диктофон, в наше время никуда от него не уйти»), приходили в движение кипы старых писем («Разбираю переписку военных лет с родителями — давний мой долг»), появлялись и исчезали стопки гранок— Симонов держал корректуру очередного тома собрания сочинений.
— А «Чужую тень»,— сказал он в одну из таких мимолетных наших встреч,— не включаю. Нечего было такое писать.— Сказал и словно поставил точку в каком-то давнем, не однажды зачинавшемся диалоге.
Кажется, последнее, над чем он работал в больнице, сначала с микрофоном, потом с пером в руках над гранками, была статья о Халхин-Голе. Симонов очень тужил, что не может быть в Монголии в дни, когда отмечалось сорокалетие событий, где он впервые выступил в роли военного корреспондента. И когда через несколько дней «Литературка» была у меня в руках, опять словно морозом сковало сердце: слишком много было об ушедших, слишком много прощаний...
Возвращаясь поневоле к своей болезни, Константин Михайлович рассказал, что настаивает на применении к нему одной, «говорят, небезболезненной, но радикальной процедуры», он назвал ее выкачкой.
— Надо попробовать,— говорил он, грассируя больше, чем обычно,— надо попробовать. Иначе нет смысла. Иначе нет никакого смысла...— И можно было только гадать, что он имел в виду...
Настал такой день, когда, позвонив ему дважды и трижды и не услышав ответа, я спустился несколькими этажами ниже и обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемыми лицами объяснили, что Константина Михайловича увезли на особый этаж...
И еще два штриха, как два огненных следа трассирующей пули, обозначили в моей памяти последнюю прямую в жизни Константина Симонова.
Разговор с женщиной-врачом у большого лифта.
— Скажите, вы не оттуда, не с...?
— Оттуда...
— Как у Константина Михайловича дела?
— Положение сложное, крайне сложное...
— Тогда спрошу грубее: есть надежда?
Вместо ответа отрицательное, на полный поворот шеи движение головой. И несколько слов затем — в утешение, в оправдание?
— К сожалению, медицина не все может. Наступает предел и ее возможностям.
— Но он в сознании?
— Да.
— Сколько же может... могут продлиться страдания?
— Этого никто с уверенностью не скажет. Никто не знает, сколько последних сил в организме... Но держится мужественно...
И просятся на уста слова о том, что эти две предсмертные недели были подвигом писателя и человека Константина Симонова. Он знал, что умирает, мужественно приготовился к смерти, с хладнокровием воина заглянув за тот предел, где его уже не будет...
Кому доведется хоть раз побывать в Риме, не миновать и собора Святого Петра. И там перед собором, у не менее знаменитой четырехрядной колоннады Бернини ему непременно покажут такую точку на выложенной камнем площади, с которой контуры всех четырех рядов колонн сливаются воедино. Никто не знает, был ли этот чудесный эффект задуман мастером или возник сам собой.
Во время одной из наших последних бесед Константин Симонов рассказывал мне, что замыслил пьесу, которую про себя называет «О моих четырех Я». И расшифровал: Я в довоенные годы, Я в 1945-м и в послевоенные годы и сегодня... Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но меньше помню... Любопытно взглянуть на себя той поры с высоты сегодняшних представлений и на себя нынешнего из предвоенного далека...
Не искал ли и он в себе ту самую точку зрения, точку отсчета, с которой воедино слились бы для него драматические противоречия эпохи, судеб человеческих?
И не тем ли же самым — попыткой увидеть одного Симонова в тех, которых я знал,— являются и эти страницы моих записей?
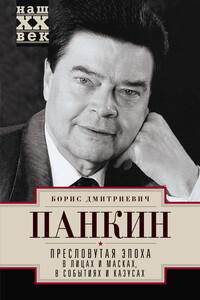
Автор книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах» – бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», бывший председатель ВААПа, бывший министр иностранных дел СССР Борис Панкин. Перед читателем проходит целая галерея образов людей неординарных: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Улоф Пальме и Маргарет Тэтчер, Юрий Гагарин и Астрид Линдгрен и многие, многие другие, с которыми автору довелось встречаться на протяжении жизни. Живой и увлекательный рассказ о них составляет канву мемуаров, на страницах которых эти люди предстают в новом, подчас неожиданном ракурсе.
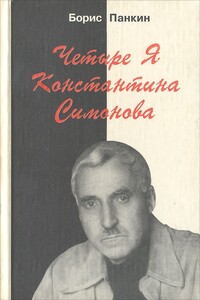
Книга написана на основе личного знакомства автора с Константином Симоновым, а также обширного документального материала, собранного в результате встреч и бесед с его женой Ларисой Алексеевной, личным секретарем Ниной Павловной Гордон и другими лицами из окружения Константина Михайловича, а также углубленного изучения архивов писателя.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.