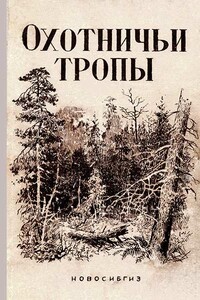Точка опоры - [2]
Мария Александровна выпрямилась в кресле и снова вздохнула.
И к Саше, и к Ане, и к Володе, и к Мите, и к младшенькой Маняше - ко всем ходила в тюрьмы на свидания. Носила передачи...
И вот снова. Теперь уже по два узелка: один - Мане, другой - Марку. В одно и то же окошко проклятой Таганки.
Пошла третья неделя с той черной ночи, когда увели дочь и зятя. Говорят, по всей Москве хватали смелых, непреклонных, почитающих борьбу с царизмом делом своей жизни. И приурочили аресты к первому марта. Значит, опасались, что подпольная Россия даст о себе знать в двадцатилетие первомартовцев. Но ведь у наших, у социал-демократов, иной путь. Еще в год гибели Саши Володя сказал: "Мы пойдем другим путем". Пока они копят силы... А тюрьмы вместительны... И велика Сибирь, бесконечен кандальный звон...
Одна. Совсем одна. И Фриду на прогулку стало некому водить - пришлось расстаться с такой собакой...
Мария Александровна спустила шаль на плечи, подошла к своему столику, взяла недавнюю карточку, на ней - Митя, Маняша и Марк, у их ног - Фрида. Марк озабоченный, даже удрученный, будто предчувствовал беду.
Поставила карточку на место, взяла письмо зятя, первое из тюрьмы, надела очки и стала перечитывать:
"Давно бы написал я тебе, дорогая мама, да здесь для писем определенные дни. Вот я и ждал вторника. Все у меня здесь прекрасно, а потому чувствую себя великолепно. Опишу тебе мою хоромину. Длина - 6 аршин, ширина - 3 арш., высота 4 1/2 арш.; высоту трудно измерить, так как поверхность потолка сводчатая. Окно полтора аршина высотой и 1 1/2 шириною. Помещено оно на высоте 10 четвертей над полом. В противоположной стене - дверь, и, войдя в комнату, видишь на правой стороне постель и полку для посуды, а также согревательную трубу, а налево в углу то, что не принято называть... Живу я в 5-м этаже. Роскошный вид из окна на всю Москву! Если бы у меня был бинокль, то, вероятно, я разглядел бы если не нашу квартиру, то по крайней мере училище. Был как-то ясный день, и я любовался переливами солнечных лучей на куполе храма Христа Спасителя и на куполах кремлевских церквей. Вид не хуже, чем с Воробьевых гор. Правда, там с иной точки зрения смотришь, но цель - получить удовольствие - одна и та же".
Бодрится Марк. Ни капельки уныния, ни грана недовольства. И все намеренно, наигранно, иначе жандармы не выпустили бы письмо за пределы тюрьмы. А к легкой, едва заметной иронии не сумели придраться.
И Мария Александровна продолжала перечитывать:
"Жизнь здесь крайне правильная... Нельзя только петь, но и то мурлыкать или петь в уме можно, и я часто напеваю так в уме знаменитую арию мельника "Вот то-то!". Около 12 часов дня обед. Обед ценю в 18 копеек по расписанию - очень хорош. Только, к моему неудовольствию, часто бывают кислые щи, которые я не ем... Около 4 час. дня вечерний чай. Около 7 час. вечера молитва, затем после поверки полная свобода до следующего утра...
Не унывай, наша дорогая, и мужественно переноси незаслуженные лишения! Целую тебя.
Твой М. Е.".
- Не унывай... В одиночестве-то простительна такая минута...
Была большая семья, хлопот и забот - на целые дни. Теперь - никого. Хоть бы Аня вернулась из-за границы... Легко сказать "вернулась бы". Нельзя ей - в Москве сразу схватят. Будет еще одна узница!.. И Володе нельзя. У него там - дело, начатое с таким трудом.
Он скоро не будет одиноким. Надя вот-вот вернется из ссылки и поедет к нему.
Об арестах не писала ей. Зачем волновать? У нее и без того треволнений достаточно. А в Москву Надя и без письма наведается. Не может не заглянуть перед отъездом за границу. Хоть тайком, хоть на часок, а все равно заглянет.
Положив письмо Марка на стол, Мария Александровна провела рукой по груди и словно очнулась:
"Что же это я?.. В пальто и шали в комнате..."
Невысокая, сухонькая, не по годам быстрая на ноги, она вернулась в переднюю, сняла малопривычную для нее шаль, которую надевала только тогда, когда отправлялась на свидание в тюрьму или на рынок за овощами, повесила пальто на вешалку. В кухне она разожгла самовар тонкими березовыми лучинками, положила в него древесного угля и сказала вслух, будто не самой себе, а семье:
- Будем пить чай... А пока я... - Ей хотелось занять не только каждую минуту - каждую секунду, и она направилась к пианино. - Немножко разомну пальцы...
Но прежде чем сесть на круглый стул, она сходила в свою комнату, валенки заменила мягкими туфлями, поверх белых, все еще довольно пышных волос надела ажурную черную наколку, точно собиралась играть не для себя одной. Провела рукой по крышке и бережливо откинула ее. Не доставая нот с этажерки, села, сосредоточенная, прямая, пошевелила в воздухе тонкими, по-старчески сухими пальцами, на секунду вскинула на потолок полуприкрытые ресницами глаза и, стремительно качнувшись вперед, коснулась клавишей. Не спеша, размеренно и задумчиво. И звуки "Лунной сонаты" как бы раздвинули стены комнаты, поплыли одинокие облака по густо-синему ночному небу, и лунный луч то скользил по озерной глади, то, затухая, пробегал по листве прибрежного леска, то снова вырывался на простор.

О годах, проведенных Владимиром Ильичем в сибирской ссылке, рассказывает Афанасий Коптелов. Роман «Возгорится пламя», завершающий дилогию, полностью охватывает шушенский период жизни будущего вождя революции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Великое кочевье» повествует о борьбе алтайского народа за установление Советской власти на родной земле, о последнем «великом кочевье» к оседлому образу жизни, к социализму.

Настоящая книга является переводом воспоминаний знаменитой женщины-воительницы наполеоновской армии Терезы Фигёр, известной также как драгун Сан-Жен, в которых показана драматическая история Франции времен Великой французской революции, Консульства, Империи и Реставрации. Тереза Фигёр участвовала во многих походах, была ранена, не раз попадала в плен. Она была лично знакома с Наполеоном и со многими его соратниками.Воспоминания Терезы Фигёр были опубликованы во Франции в 1842 году. На русском языке они до этого не издавались.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
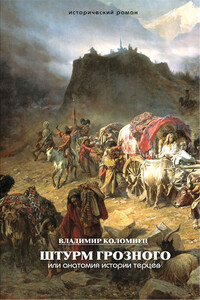
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
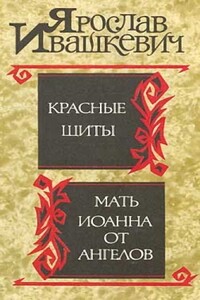
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.