Титаны психиатрии XX столетия - [17]
Таким образом, застой в развитии «первой волны биологической психиатрии», инициированной В. Гризингером и его учениками и последователями Б. фон Гудденом и Т. Мейнертом, который был связан с тем, что в то время не наблюдался особый прогресс в обнаружении материального, органического субстрата психических заболеваний и с несовершенством тогдашних методов посмертного анатомо-гистологического исследования головного мозга, вольно или невольно привел к застою во всей немецкой и австрийской психиатрии. Это происходило именно из-за своеобразного подхода многих исследователей к головному мозгу, выражавшемуся в детальном посмертном изучении его анатомии и гистологии, из-за их пренебрежения описательной феноменологией, изучением, сравнением и обобщением клиники, типов течения в динамике, типичного прогноза и исхода психических заболеваний.
Затем молодой Э. Крепелин подробно и тщательно раскритиковал то, что он позже назвал «мозговой мифологией». Под этим термином он понимал умозрительные, спекулятивные теории об органической, нейроанатомической этиологии и патогенезе психических заболеваний, а также использование соответствующего этим спекуляциям полумистического псевдоанатомического, псевдоневрологического языка. Этот раздел лекции Э. Крепелин завершил резкой, почти уничижительной критикой полумистического, ненаучного псевдоневрологического, псевдоорганического языка, применявшегося за неимением нейроанатомических находок. Этот полумистический язык, использовавшийся последователями В. Гризингера, Б. фон Гуддена и Т. Мейнерта для объяснения природы психических заболеваний и явлений психической жизни, в то время отличал большую часть научных трудов, написанных ведущими европейскими психиатрами, не только немецкими и австрийскими. В качестве примеров подобного псевдоанатомического или псевдоневрологического языка Э. Крепелин привел такие введенные некоторыми учеными того времени термины, как «система моральных волокон», «логика мозгового процесса» или «местные энервативные чувства», и указал, что наличие в головном мозге подобных сущностей никак не доказано. Следовательно, использование таких терминов, по Э. Крепелину, заведомо антинаучно и спекулятивно, ничуть не менее антинаучно и спекулятивно, чем резко отвергавшиеся В. Гризингером и его последователями такие восходящие к религиозно-мистическим концепциям термины, как «душа».
Действительно, клинико-психопатологический и описательно-феноменологический подходы, основанные на клиническом наблюдении, описании, а затем на попытках обобщения и классификации наблюдаемых клинических фактов и психопатологических феноменов, применялись в психиатрии за неимением в то время других методов изучения психики издавна, еще со времен первых описаний Гиппократом таких психопатологических синдромов, как «мания», «депрессия», «деменция» и «паранойя». Однако на фоне возникшего во второй половине XIX века и в начале XX века материалистического энтузиазма, связанного с обнаружением и описанием В. Гризингером, Б. фон Гудденом и их учениками материального, органического субстрата таких неврологических заболеваний, как прогрессивный паралич, эпилепсия или деменция, и возникшей (и вскоре отвергнутой) надежды, что материальный (нейроанатомический или нейрогистологический) субстрат всех остальных психических заболеваний и неврологических заболеваний тоже будет вскоре найден, что именно это позволит вскоре разработать их научно обоснованную классификацию и систему диагностики, применение упомянутых методов изучения и классификации психических заболеваний, к сожалению, было в значительной степени заброшено или позабыто.
Э. Крепелин язвительно отметил, что детальные посмертные исследования анатомии и гистологии головного мозга людей с психическими заболеваниями, проведенные доступными в то время методами, безусловно, могут привести того или иного ученого к академической славе и известности, но не могут привести к существенному прогрессу в понимании этиологии и патогенеза психических заболеваний или в разработке их научно обоснованной классификации.
Вместо нейропатологического подхода, уже доказавшего за предыдущие десятилетия свою научную несостоятельность, Э. Крепелин с энтузиазмом призвал к изучению и широкому применению в психиатрии методов только-только нарождавшихся тогда новых наук – экспериментальой психологии и факультетской психологии, заложенных В. Вундтом. Он отметил, что строго научные, количественно измеряемые, легко повторяемые и надежно воспроизводимые результаты психологического эксперимента могут привести, и даже уже, по его мнению, привели к эмпирическим данным, важным и ценным для клинической психиатрии. Крепелин полагал, что именно систематическое применение в психиатрии методов экспериментальной психологии и факультетской психологии может дать долгожданный ключ к пониманию этиологии и патогенеза психических заболеваний и, возможно, даже к пониманию истоков отдельных их симптомов.
Однако, призвав к изучению и применению в психиатрии методов экспериментальной психологии и факультетской психологии, к отказу от фиксации на изучении лишь головного мозга, со столь же резкой и уничижительной критикой, которой он перед этим подверг «вульгарный радикальный материализм», Э. Крепелин обрушился в целом на состояние тогдашней немецкой и австрийской школы психологии, неудовлетворительное и ненаучное (не считая считавшегося в то время едва ли не сектантским относительно небольшого течения учеников и последователей В. Вундта, который именно стремился сделать психологию настоящей естественной наукой; сам Э. Крепелин, как мы помним, тоже принадлежал к ученикам и последователям Вундта).
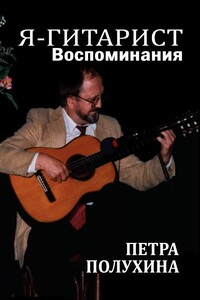
Книга представляет собой воспоминания, написанные выдающимся гитаристом современности. Читатель узнает много интересного о жизни Петра Полухина в Советском Союзе и за рубежом.
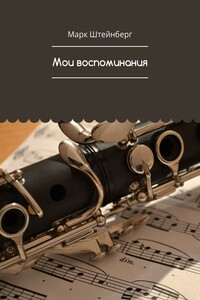
Это необычная книга, книга-факсимиле. Собрана она, как в калейдоскопе, из различных кусочков: кусочков жизни необычного человека. Одессит Марк Штейнберг проживает сегодня в израильском городе Петах-Тиква. А его мелодии звучали и звучат и в сибирских городках, и в зале Кремля, в столице Беларуси, и, конечно, в Одессе и Израиле. Я рад, что мне посчастливилось встретиться с этим человеком и поработать в творческом тандеме. Роман Айзенштат, член Союза писателей Израиля, поэт.
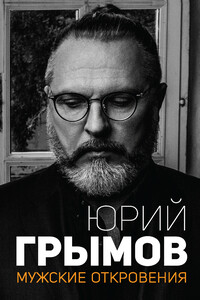
Юрий Грымов – известный режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн», обладатель более 70 профессиональных наград (Грымов – лауреат премий во всех областях творческой деятельности, которыми он занимался) – это формально точное, хоть и скупое описание можно прочесть в Интернете. Гораздо сложнее найти там информацию о том, что Юрий Грымов – фотограф, автор, наблюдатель, человек, обладающий нестандартным взглядом на вещи и явления, на людей и события, на спектакли и кино. Его богатая биография включает в себя не только многочисленные путешествия, в том числе и одно кругосветное, но и встречи с интересными, талантливыми, знаменитыми людьми: Людмилой Улицкой, Алексеем Петренко, Алексеем Баталовым. При этом он не только, как режиссер, видит то, что недоступно обычному человеку, он может про это написать.

Книга И. Стрелковой рассказывает о жизни замечательного ученого и путешественника Чокана Валиханова. Казахский народ считает его своим первым ученым и первым революционным мыслителем. В торговом караване Чокан Валиханов совершил путешествие в неизвестный тогда русской и европейской науке Кашгар. Открытия, сделанные им, поставили молодого поручика русской армии в ряд с выдающимися географами мира. Чокану Валиханову принадлежат выдающиеся труды по географии, истории, этнографии, экономике, социологии Казахстана, он сделал записи казахского фольклора, открыл для науки киргизский эпос «Манас».
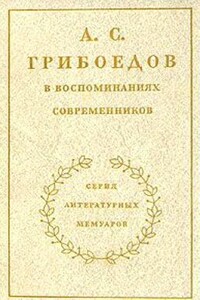
В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о великом русском писателе А. С. Грибоедове: С. Бегичева, П. Вяземского, А. Бестужева, В. Кюхельбекера, П. Каратыгина, рассказы друзей Грибоедова, собранные Д. Смирновым, и др.
