Тисса горит - [208]
— Знаете, Петр, в эмиграции жить трудно.
— Знаю. Вы не устали?
— Немного.
Петр взял девушку под руку.
Так молча дошли до Гринцинга.
Они уже подходили к баракам.
— Два года тому назад, — сказал Петр, — я эмигрировал тогда впервые, — я тоже жил здесь. С тех пор мне не доводилось бывать в сорок третьем.
— Зайдемте! Вспомните старину.
Петр почему-то надеялся, что Ленке живет в той комнате, где жила Драга. Но он ошибся, Ленке жила в северном флигеле барака.
На другой день в послеобеденное время на улице Петр случайно встретился с Гюлаем. Часа два бродили они под проливным дождем. Увлекшись спором, они не заметили, как промокли насквозь. Петр упомянул о Гомоннае.
— Гомоннай… Гомоннай… Постой-ка! Это уж не та ли каланча с яйцеобразным черепом? Философ, если не ошибаюсь?
— Вот-вот!
— Я его знаю. Но отвечать за него не могу. К партии он никак не причастен. Он эмигрант. Но что заставило его эмигрировать — известно ему одному. Если только он и сам-то это знает. Повторяю, к партии он никак не причастен. Энтузиастом же нашей фракции он сделался, видимо, по той простой причине, что в прошлом у него была какая-то связь с Арваи в те времена, когда тот еще был чемпионом по теннису или чем-то в этом роде. Если из-за каждого мелкого жулика ты будешь так расстраиваться, так действительно садись-ка лучше обратно в тюрьму.
Вечер Петр провел у Ленке. Он вернулся домой очень поздно. Дома его ждал гость — Готтесман.
— Что ты удрал — это в порядке вещей. Но вот как ты мог так долго выдержать на хлебах Хорти?
— Меня, брат, и не спрашивали.
— Не может быть!
— А ты чем занимаешься?
— За неимением лучшего служу поваром.
— Поваром? Разве ты умеешь готовить?
— Готовить — нет. Но посуду мыть умею. Работа — как работа. И, как видишь…
Готтесман указал на стол, где на салфетке лежали два обрезка салями, кость от окорока и прочие прелести.
…как видишь…
А что ты скажешь насчет фракционной борьбы? — спросил Петр, уплетая яства.
— Ешь, брат, ешь! — угощал Готтесман.
— А что ты скажешь насчет Цюриха? — минутой позже спросил он в свою очередь. — Запомни, Петр! Обругай меня социал-демократом, если через месяц на улицах Вены не прольется кровь. Я уже присмотрел большой кухонный нож. Орудие подходящее. Хочешь, один могу одолжить и тебе?
И борьба идет…
Франц Гайду явился в одиннадцать, на час раньше открытия собрания, одним из первых.
Не спеша спустился он по узкой лестнице в зал. Зал был пуст. Лишь одна электрическая лампочка слабым светом освещала три биллиардных стола, длинный ряд колченогих стульев вокруг эстрады, выдвинутой на середину зала. На эстраде — стол, покрытый зеленым сукном, два стула.
Гайду взглянул на часы и мысленно выругался. Он направился к выходу. Поднимаясь по лестнице, столкнулся с Годоши.
— Здравствуй!
— Здравствуй!
И разошлись. Гайду и в голову не пришло сказать Годоши, что в зале еще никого нет.
Наверху, в кафе, обычные воскресные посетители. Сюда собирались посидеть, просмотреть газеты, реже — позавтракать.
Гайду уселся за столиком. Заказал чай с двойной порцией рома. Минуту спустя Годоши занял соседний столик и также заказал чай с двойной порцией рома. В ожидании чая они рассматривали друг друга. Не враждебно, нет. Насмешливо скорее. Как будто каждый из них думал: «Ну, брат, и залез же ты по самую шею в…»
Почти десять лет работали они вместе на чепельском заводе.
«Целое озеро можно было бы собрать из того пива, что мы с ним вместе выпили, пока удалось загнать нашу публику в профсоюзы», — думает Гайду.
Но в долгие годы совместной работы лилось не одно только пиво.
В апреле девятьсот пятнадцатого года вместе присутствовали они на тайном собрании, которое — за спиной социал-демократической партии — обсуждало возможности забастовки и постановило подготовить политическую стачку.
Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Тысяча девятьсот семнадцатый. Тысяча девятьсот восемнадцатый.
Гайду был одним из руководителей забастовки, объявленной в дни мирных переговоров в Бресте. Его арестовали. Вскоре освободили. Недели через три забрали в армию и отправили на итальянский фронт.
Годоши месяц спустя грозил военно-полевой суд. И вплоть до катастрофы сидел он в тюрьме на бульваре Маргариты.
Образовалась коммунистическая партия. Годоши выгнали с завода. Гайду был арестован.
Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Двадцать первое марта.
Гайду уехал на румынский фронт. Годоши — двумя неделями позже — против чехов. При отступлении встретились в Пеште. Бежали вместе. Перешли австрийскую границу. Месяца через полтора Гайду снова был на работе.
Румыния. Трансильвания. Забастовка. Сигуранца. Допрос Пытки огнем и водой.
Пятнадцать лет каторги. Бегство. Словакия. Вена. Годоши был среди тех, которые вернулись домой, чтобы помочь бежать Отто Корвину. Двух товарищей поймали и замучили насмерть. Годоши удалось бежать в Югославию. Шесть месяцев проработал он в Печ. И вот он в Вене.
Вошел Шимон. Подсел к Годоши. Тот допивал третью чашку чая с ромом. Лицо его раскраснелось. Он сидел неподвижно и прямо, как солдат на параде.
— Позже, — говорит Шимон подошедшему кельнеру.
Позже — это значит: «Я сыт. Сейчас ни есть, ни пить не хочу. Немного погодя подойдите принять заказ».

Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.

Во время второй мировой войны Б. Иллеш ушел добровольцем на фронт и в качестве офицера Советской Армии прошел путь от Москвы до Будапешта. Свои военные впечатления писатель отразил в рассказах и повестях об освободительной миссии Советской Армии и главным образом в романе «Обретение Родины», вышедшем на венгерском языке в 1954 году.
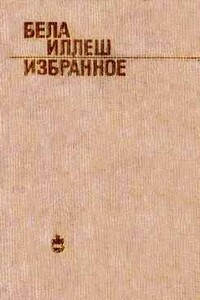
В романе «Карпатская рапсодия» (1937–1939) повествуется о жизни бедняков Закарпатья в составе Австро-Венгерской империи в начале XX века и о росте их классового самосознания.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.