Тихий ад. О поэзии Ходасевича - [2]
Мне каждый звук терзает слух
И каждый луч глазам несносен.
Это по новому и с гораздо большей остротой и правдоподобностью выраженное Гумилевское (у Гумилева оно было мимолетное) «презрение к миру и усталость слов» порождает непреодолимое желание нарушить равновесие этого «тихаго ада», разстроить скучный мировой порядок, метафизически набедокурить, если можно так выразиться. И поэт все с той же правдивостью самообнажения, доходящей до цинизма, признается:
Все жду, кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.
И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется
И станет горькою вода.
Прорвутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.
Это страшное жуткое стихотворение особенно жутко потому, что мы до конца верим поэту: мы знаем, что он именно этого хочет, об этом томится, ибо не верит он в «красоту земную» и не хочет «здешней правды», зная, что
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом…
Себя поэт презирает и безпощадно сравнивает с червяком:
Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам
. . .
Дневным сиянием об’ятый,
Один беззвездный вижу мрак…
Так вьется на гряде червяк…
Разсечен тяжелою лопатой.
Жизнь это — «косная, нищая скудость». Понятно поэтому, что
Ни жить, ни петь почти не стоит.
* * *
Из такого отношения к миру выростает у поэта мотив смерти. У Ходасевича это даже не предчувствие смерти, а уже «горькое предсмертье».
Смерть для него — обыденное, близкое, свое:
… Уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
Смерть — «долгожданный гость», она близко вот тут, у ворот:
Не странно-ль жить, почти что осязая,
Как ты близка?
И дальше:
Еще томят земныя разстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознанье,
Что ты близка.
Поэт ощущает себя «яблонью, отягощенною плодами» и говорит:
И не постигнуть, юным, вам,
Всей нежности неодолимой,
С какою хочется ветвям
Коснуться вновь земли родимой.
Уже в этом «горьком предсмертье» наступает тление, то «дыхание распада», которое Люцифер — «первый дачник на расцветающей земле» — «в долину мирных райских роз… на крыльях дымчатых принес» и про которое Ходасевич, противопоставляя его мирной сельской жизни с ея «простыми затеями», где
… радуга высоким сводом
Церковный покрывает крест
И каждый праздник по приходам
Справляют ярмарку невест —
говорит
А я росистыя поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащем,
И к девушкам, румяным розам,
Склоняюсь томною главой,
Дышу на них туберкулезом,
И вдохновеньем, и Невой.
* * *
До сих пор я цитировал стихи почти исключительно из «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», т. е. стихи 1914 — 22 гг. В последних стихах Ходасевича, в «Европейской ночи»(1923 — 27) все его основныя темы получают предельное воплощение и заострение. Если раньше мы видели раздвоение «я» поэта, теперь это «я» — по крайней мере, в мечтах поэта — раздробляется на множество частиц. Поэту в этой жизни «дороже всех гармонических красот» —
Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный поэт,
Иль сон, где некогда единый, —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.
Отсюда недалеко до того, чтобы воскликнуть — может быть, с затаенным ужасом, с болью — что «я» вообще нет:
Я, я, я. Что за дикое слово!?
Неужели но тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосераго, полуседого,
И всезнающаго как змея?
Кстати, это змеиное всезнание еще раньше отчетливо ощущалось поэтом как неот’емлемый аттрибут жизннаго роста. Он не раз говорит о своих «пресыщенных глазах», повторяет:
Все я знаю, все я вижу (стр. 86)
Я много знаю, много вижу (88)
Для распыленнаго, всезнающаго и многомудраго «я» конкретный мир, как он есть, предстает какой-то страшной, жуткой карикатурой, каким-то беспросветным уродством, где «все высвистано, прособачено», где обитают «уродики, уродища, уроды», где — сплошная «ночная гнилость». «Все каменное» — в этом мире, в изображении котораго Ходасевич сочетает жуткий, цинический реализм с какой-то страшной фантастикой, напоминая и тем и другим Бодлэра («Окна во двор», «Под землей», «An Mariechen», «Берлинское», «Дачное», «Баллада», «У моря», «Звезды»). Олицетворение этого мира — модернизированный и опошленный Каин «с экземою между бровей», в широкополом канотье и с желтыми зубами (цикл «У моря»).
В этом уродливом мире, отраженном и искаженном в безчисленных осколках расколовшейся души, поэту не мило ничто: ему претит от истин и красот», его не радует «человечий гений», который «все бьется… то вверх, то вниз», ему «тяжко» и «больно» жить душою в творениях художников, и после прогулки по музею его утешает лишь мысль
… что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.
Люди для него, с их «непреложным законом» и «заповедным смиреньем» — только жалкие «пузырьки в сифоне», и ему хочется ударить по миру кулаком или сойти с ума, когда он встречает безрукаго с беременной женой в синема — в этом образе для Ходасевича воплощается жалкая людская пошлость. И он не выносит:
Ременный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
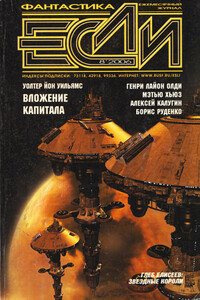
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».

«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».

«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».

«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».