Теперь – безымянные... (Неудача) - [3]
С этими фразами на языке, думая о том, что надо будет написать про это и домой, пусть поразятся и там, как у него получилось, он и выбежал из кустов на освещенную низким солнцем поляну вблизи опушки и мгновенно оробел, смешался: на поляне были не только свои, но и еще какое-то начальство, и все в высоких званиях – майоры, полковники. Надо всеми возвышалась рослая, массивная фигура генерала в полной генеральской форме – с красными лампасами на брюках, с витым золоченым шнуром на малиновом околыше фуражки и золотыми же, ярко блиставшими в свете солнца, нагонявшими невольную робость звездами на угольниках воротника. Это блистание золотом, могущее только демаскировать, привлечь внимание немецких наблюдателей, этот парад здесь, вблизи передовой, выглядели совершенно неуместно, как ни для чего не нужная бравада, демонстративное пренебрежение опасностью.
Генерал говорил с командиром дивизии Остроуховым, и не просто говорил, а горячась, сердито. Его лицо, широкое, мясистое, нажженное солнцем, с коротким, как бы вдавленным носом, с тою грубоватостью во всех чертах, которая многими принимается за свидетельство сильного характера, было напряженным, багровым. Еще более густой багровой краской была налита сдавленная воротником кителя генеральская шея, обмотанная грязноватым, скрутившимся в жгут бинтом, измазанным под затылком кровью.
– Чего тебе еще ждать? – не слушая, что пытается возразить Остроухов, говорил генерал громко и резко, нисколько не стесняясь, что тон его, обращение на «ты» могут быть для Остроухова оскорбительны, обидны. – Два полка у тебя есть, это что – мало? Немцы выдохлись, только огрызаются, а силенки уже нет, бока у них понамяты. Их и батальоном толкнуть можно, а навалиться покрепче – так и всех с потрохами заберем!..
Со стороны города, стремительно приближаясь, нарастая, послышалось жужжание мины. За низкорослым изломанным кустарником и редкими, тоже изломанными, размочаленными деревцами, которыми кончался лес, переходя в открытое поле, звонко грохнуло. Осколки, фырча, воя, пролетели вверху, защелкав о древесные стволы.
Все повернули головы, когда зажужжала мина, и повернули их опять, по звуку проследив в воздухе полет невидимых осколков, кое-кто пригнулся даже, не слишком явно, стесняясь своей боязни, и только генерал и Остроухов, занятые спором, не обратили на мину внимания, как будто не слыхали ее вовсе.
– Товарищ генерал-лейтенант!.. – произнес стоявший сбоку и чуть позади генерала затянутый в портупейные ремни адъютант с тремя кубиками в петлицах. Лицо у него было беспокойно, он настороженно вслушивался – не последует ли новая мина. Подступив к генералу, он рукою в коричневой перчатке слегка, почтительно, но одновременно с настойчивостью коснулся генеральского локтя.
– А! – отмахнулся раздраженно генерал, но все же послушался, отошел под прикрытие комластого, кривого дубка и сел под ним на землю, на край неглубокой канавки.
Остроухов и все другие командиры, двумя кучками, в одной дивизионные, в другой – те, что составляли генеральскую свиту, передвинулись следом за генералом.
– Давай, давай полки! – сказал генерал категорично еще более подчеркнуто выражая всем своим видом, что он не хочет ничего слушать, не принимает и не примет никаких отговорок. – Не тяни резину – самый момент... Упустим – потом пожалеем Ты же ведь сам вояка, с первых дней, знаешь, как на войне иная минута все дело решает...
– Ни одной же пушки, товарищ генерал-лейтенант!.. – Остроухов отвечал тоном упрека в том, что хотят заставить его сделать.
– Поддержим, своей артиллерией поддержим!
– Какой артиллерией, сколько ее, где она? По три снаряда на ствол?.. А у меня идет целый артполк.
Некрупный, не отличавшийся физическою силою Остроухов, казавшийся совсем маленьким, просто подростком в сравнении с грузным, массивным генералом, всегда спокойно-сдержанный и вдумчиво-неторопливый, ни разу, как он принял дивизию, не повысивший на подчиненных голос, всегда и во всем знавший, что делать, какой найти наилучший выход из трудного положения, сейчас был взволнован, бледен и явно растерян.
Генерал, говоривший Остроухову «ты», хотя они увиделись и познакомились только что, на этой поляне, был командующий армией Мартынюк, в чье распоряжение поступала теперь дивизия. Он прибыл сюда на бронемашине со своего КП, чтобы лично встретить Остроухова и тут же немедленно отправить его с полками на штурм города.
Остроухов знал, что придется вступать в бой сразу же, вероятно, прямо с ходу, и был готов к этому. Но он полагал, что это будет бой оборонительный. Такая задача еще была в пределах возможного для людей, которые двое суток не спали и ни разу по-настоящему не ели, чуть ли не бегом проделали по жаре больше ста верст, едва-едва держались на ногах и имели только легкое оружие, что принесли на себе.
Но штурм города – это было совсем иное, куда более серьезное, ответственное и трудное дело, совершенно невыполнимое и безнадежное, если пытаться осуществить его тотчас же, без артиллерии и танков, не зная толком, где и как укрепились немцы, где их огневые точки и минные поля, в каком месте они сильнее, в каком слабее. Остроухов, всю жизнь служивший в армии, прошедший фронтовую школу первой мировой войны и гражданской, успевший и в нынешнюю хватить лиха, за годы армейской службы много учившийся, ставший из рядового командиром со званием полковника, понимал это со всей отчетливостью и не понимал только одного, как этого не понимает Мартынюк, тоже старый армеец, с боевым опытом генерал.
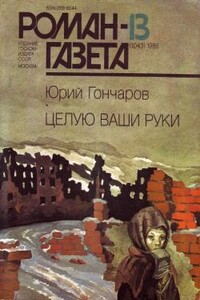
«… Уже видно, как наши пули секут ветки, сосновую хвою. Каждый картечный выстрел Афанасьева проносится сквозь лес как буря. Близко, в сугробе, толстый ствол станкача. Из-под пробки на кожухе валит пар. Мороз, а он раскален, в нем кипит вода…– Вперед!.. Вперед!.. – раздается в цепях лежащих, ползущих, короткими рывками перебегающих солдат.Сейчас взлетит ракета – и надо встать. Но огонь, огонь! Я пехотинец и понимаю, что́ это такое – встать под таким огнем. Я знаю – я встану. Знаю еще: какая-то пуля – через шаг, через два – будет моя.
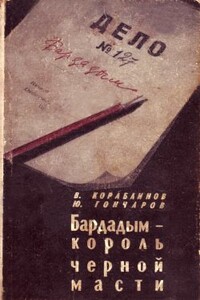
Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
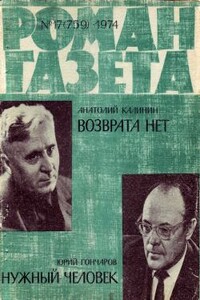
«…К баньке через огород вела узкая тропка в глубоком снегу.По своим местам Степан Егорыч знал, что деревенские баньки, даже самые малые, из одного помещения не строят: есть сенцы для дров, есть предбанничек – положить одежду, а дальше уже моечная, с печью, вмазанными котлами. Рывком отлепил он взбухшую дверь, шагнул в густо заклубившийся пар, ничего в нем не различая. Только через время, когда пар порассеялся, увидал он, где стоит: блеклое белое пятно единственного окошка, мокрые, распаренные кипятком доски пола, ушаты с мыльной водой, лавку, и на лавке – Василису.
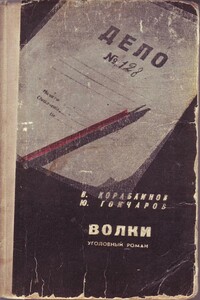
«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
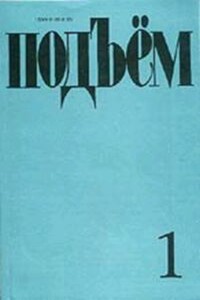
«… И вот перед глазами Антона в грубо сколоченном из неструганых досок ящике – три или пять килограммов черных, обугленных, крошащихся костей, фарфоровые зубы, вправленные в челюсти на металлических штифтах, соединенные между собой для прочности металлическими стяжками, проволокой из сверхкрепкого, неизносимого тантала… Как охватить это разумом, своими чувствами земного, нормального человека, никогда не соприкасавшегося ни с чем подобным, как совместить воедино гигантскую масштабность злодеяний, моря пролитой крови, 55 миллионов уничтоженных человеческих жизней – и эти огненные оглодки из кострища, зажженного самыми ближайшими приспешниками фюрера, которые при всем своем старании все же так и не сумели выполнить его посмертную волю: не оставить от его тела ничего, чтобы даже малая пылинка не попала бы в руки его ненавистных врагов…– Ну, нагляделись? – спросил шофер и стал закрывать ящики крышками.Антон пошел от ящиков, от автофургона, как лунатик.– Вы куда, товарищ сержант? Нам в другую сторону, вон туда! – остановили его солдаты, а один, видя, что Антон вроде бы не слышит, даже потянул его за рукав.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.
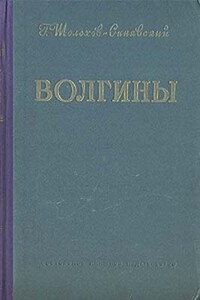
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
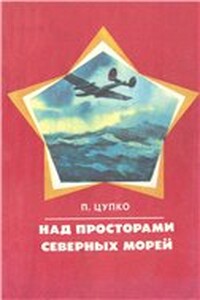
Автор — морской летчик. В своей книге он рассказывает о товарищах, которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в охране конвоев, следовавших в наши порты с военными грузами для Советской Армии.
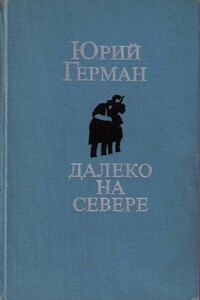
Повесть Юрия Германа, написанная им в период службы при Политическом управлении Северного флота и на Беломорской военной флотилии в качестве военкора ТАСС и Совинформбюро.
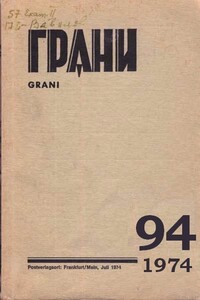
Повесть «Девочки и дамочки», — это пронзительнейшая вещь, обнаженная правда о войне.Повествование о рытье окопов в 1941 году под Москвой мобилизованными женщинами — второе прозаическое произведение писателя. Повесть была написана в октябре 1968 года, долго кочевала по разным советским журналам, в декабре 1971 года была даже набрана, но — сразу же, по неизвестным причинам, набор рассыпали.«Девочки и дамочки» впервые были напечатаны в журнале «Грани» (№ 94, 1974)

Это повесть о героизме советских врачей в годы Великой Отечественной войны.…1942 год. Война докатилась до Кавказа. Кисловодск оказался в руках гитлеровцев. Эшелоны с нашими ранеными бойцами не успели эвакуироваться. Но врачи не покинули больных. 73 дня шел бой, бой без выстрелов за спасение жизни раненых воинов. Врачам активно помогают местные жители. Эти события и положены в основу повести.

Знаменитая повесть писателя, «Сержант на снегу» (Il sergente nella neve), включена в итальянскую школьную программу. Она посвящена судьбе итальянских солдат, потерпевших сокрушительное поражение в боях на территории СССР. Повесть была написана Стерном непосредственно в немецком плену, в который он попал в 1943 году. За «Сержанта на снегу» Стерн получил итальянскую литературную премию «Банкарелла», лауреатами которой в разное время были Эрнест Хемингуэй, Борис Пастернак и Умберто Эко.