Тень друга. Ветер на перекрестке - [2]
— Когда говорят пушки — музы молчат.
— Почему это они молчат? Где они молчат? — деловито осведомился редактор.
— Да так, вообще, — растерянно промямлил я, — молчат. По крайней мере, так было до сих пор. Молчат. Вот у союзников, по-моему, тоже ничего крупного не создано в этом смысле. Это и понятно, — витийствовал я, обретая понемногу спокойствие, — в громе пушек растворяется, так сказать, слабый голос муз...
— Ну вот что, — хмуро перебил редактор, — как там у союзников, я не знаю. Зачем нам нужны их музы? Пусть открывают скорее второй фронт. Их музы могут молчать, а наши должны говорить. Понятно?
— Понятно! — сказал я так же машинально, как и плачевное «не могу знать».
— Ну вот, значит, и займитесь этим делом.
Последняя реплика переводила весь разговор из теоретической сферы в область железной практики, и я, подавленный, вышел из кабинета. Может, все и обошлось бы. Теперь же положение становилось угрожающим. Редактор был не из тех людей, кто забывал свои приказания, какими бы фантастическими они ни казались тем, кто их получал...
Кто-то заметил: старый солдат, о чем бы он ни говорил, всегда сведет речь на войну. И это, наверное, не только оттого, что война оставляет неизгладимые шрамы в душе и на теле.
С тех пор как военная служба перестала быть пожизненной, а так было, скажем, во времена наполеоновских или суворовских битв, когда новобранец старился в армии и рядовые гренадеры не уступали возрастом и сединами генералам, с тех пор война — удел молодых, и, говоря о ней, люди вспоминают свою молодость. В сорок первом году Петр Андреевич Павленко уже не был молод, я еще только подходил к третьему десятку. Разницу в годах Павленко сокращал таким юношеским безрассудством, что ощутить ее мог только педант.
Мы знали друг друга и раньше, познакомились в дни войны с белофиннами. Но стали дружить позже. В октябре сорок первого корреспондент «Красной звезды» Павленко вернулся с Северо-Западного фронта в Москву и поселился в моих редакционных «апартаментах». К тому сроку редакция «Красной звезды», где я был начальником отдела литературы и искусства, уже дважды сменила адрес.
Сначала мы жили в нашем старом, источенном древесным жучком особняке, в глубине просторного двора на уютной улице Чехова. Потом нелегкая понесла нас в крыло здания театра Красной Армии, что на площади Коммуны.
В заботах о безопасности центральной военной газеты определено ей было это местожительство, а при том упущена из виду конфигурация театра. Он выстроен, как известно, в форме пятиконечной звезды, для чего пришлось нарубить внутри здания множество неудобных переходов, остроугольных тупиков, трехстенных каморок. К сожалению, архитектурный замысел никак не поддавался оценке с земли.
Звезда была видна только с неба, с воздуха. И эта особенность здания не веселила воображения. На картах Москвы, извлеченных из планшетов сбитых летчиков рейха, театр Красной Армии был отмечен аккуратным крестиком и фигурировал как один из точных ориентиров для бомбометания. Его закамуфлировали театральные художники, но их искусство могло ввести в заблуждение опять-таки пешехода, наблюдение с воздуха показывало не вишневый сад, но все ту же звезду. Так что своей сохранностью здание обязано, как я думаю, скорее нашим зенитчикам, чем декораторам.
Мы понимали все это уже тогда и не чаяли выбраться из-под такого могучего ориентира куда-нибудь в более скромное место. Желание это вскоре осуществилось. Наши эмоции не сыграли тут никакой роли. Просто все редакции газет эвакуировались из Москвы вместе со своими полиграфическими базами. В Москве оставались оперативные группы крупных газет, и почти все они объединились под крышей «Правды».
В «Красной звезде» оставалось десять — двенадцать человек, а на их долю пришелся целый этаж. В моем распоряжении оказались три проходные комнаты. В первой — стол, за которым я работал. Во второй — «вещевой склад». В третьей — обитый коричневой кожей изрядно просиженный диван. Вот в эту третью комнату мы с Павленко перетащили такой же диван из первой и стали жить вместе.
На «новоселье» Павленко рассказывал:
— Встречаю Михаила Голодного: «Петя, ты вынесешь меня с поля боя? Я поеду с тобой на фронт». Я говорю: «Чудак ты, Миша, я сам ищу, кто бы меня вынес».
Мы чокнулись и дали клятву вынести друг друга отовсюду, откуда это будет необходимо.
А поле боя было совсем рядом. И расстояние до него все сокращалось — сначала до полутора часов езды на редакционной «эмке», потом — до часа, а затем — и до сорока пяти — тридцати минут.
Я вернулся в свою комнату и немедленно рассказал Павленко о беседе с редактором, если этим словом можно охарактеризовать дуэль, в которой один вооружен бьющей наповал мортирой, а другой — луковицей, выпрошенной у буфетчицы для пополнения витаминозной закуски и спрятанной в карман. Мой рассказ был оснащен иронией, сарказмом. Я брал реванш за дисциплинку в кабинете у дивизионного. К моему удивлению, Павленко не посочувствовал мне, не поддержал, а молчал, как те сонные музы, у которых по приказу редактора я должен был развязать языки.
— Неужели ты считаешь, что он прав? — тревожно спросил я. — Почему ты ничего не говоришь?
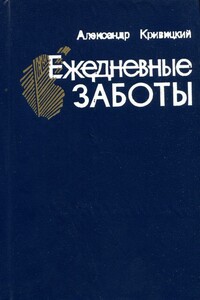
В новую книгу Александра Кривицкого, лауреата Государственной премии РСФСР, премии имени А. Толстого за произведения на международные темы и премии имени А. Фадеева за книги о войне, вошли повести-хроники «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года» и «Отголоски минувшего», а также памфлеты на иностранные темы, опубликованные в последние годы в газете «Правда» и «Литературной газете».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
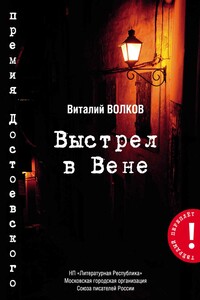
«Выстрел в Вене» — остросюжетный роман о невероятной истории спасения практически святого человека во время Второй мировой войны, за которую приходится платить по счетам его сыну уже в XXI веке. Внук советского офицера ищет в Вене встречи со знаменитым музыкантом из Аргентины. Но почему на ту же встречу стремится успеть старый немецкий антифашист? О цене свободы писали многие. А есть ли цена у святости? В серии «Твёрдый переплёт» издаются книги номинантов (участников) литературного конкурса имени Ф.М.
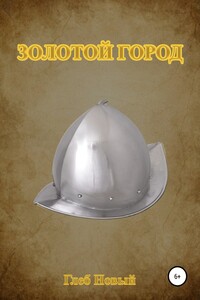
Книга повествует об истории полка конкистадоров, нашедших легендарный золотой город (Эльдорадо), что их и погубило.
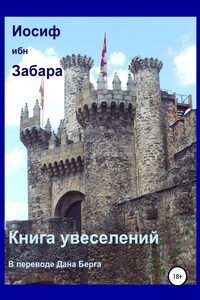
“Книга увеселений” написана Забарой в 12 веке. Автор, врач и сочинитель, рассказывает о своем путешествии по Испании с неким Эйнаном, оказавшимся дьяволом. Юмор – несомненное достоинство произведения. Перевод с иврита: Дан Берг.

Первый дозор – зарисовка о службе в погранвойсках, за год до развала СССР, глазами новенького сержанта, прибывшего на заставу, граничащую с Афганистаном. Его первый дозор, первое нарушение, первая перестрелка.
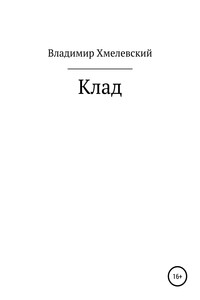
Легкое переплетение популярных жанров современной литературы, способное удовлетворить самого требовательного читателя.
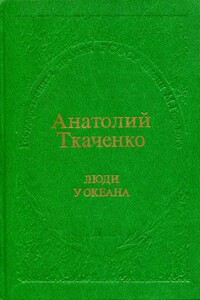
Повести вошедшие в книгу, написаны автором в разные годы: когда он жил и работал на Сахалине и позже, когда переселился в Подмосковье, но часто бывал в родных дальневосточных краях.Дальний Восток, край у самого моря, не просто фон для раскрытия характеров персонажей сборника. Общение с океаном, с миром беспредельного простора, вечности накладывает особый отпечаток на души живущих здесь людей — русских, нивхов эвенков, — делает их строже и возвышеннее, а приезжих заставляет остановиться и задуматься о прожитом, о своем месте в жизни и долге.
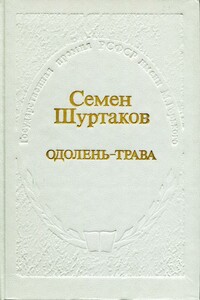
Переиздание романа Семена Ивановича Шуртакова, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Герои романа — наши современники. Их нравственные искания, обретения и потери, их размышления об исторической памяти народа и его национальных истоках, о духовном наследии прошлого и неразрывной связи времен составляют сюжетную и идейную основу произведения.
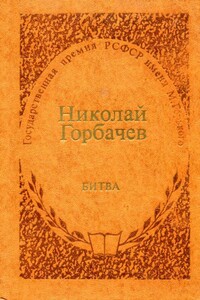
Роман Николая Горбачева, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького, рассказывает о современной армии, о работе по созданию и освоению советской противоракетной системы «Меркурий».
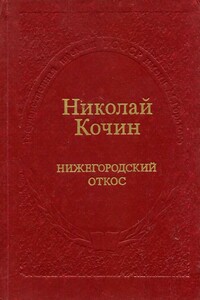
Роман «Нижегородский откос» завершает трилогию о Великой Октябрьской революции («Гремячая Поляна», «Юность», «Нижегородский откос») старейшего советского писателя. Здесь главный герой романа Семен Пахарев на учебе в вузе, В книге показано становление советского интеллигента, выходца из деревенской среды, овладевающего знаниями.